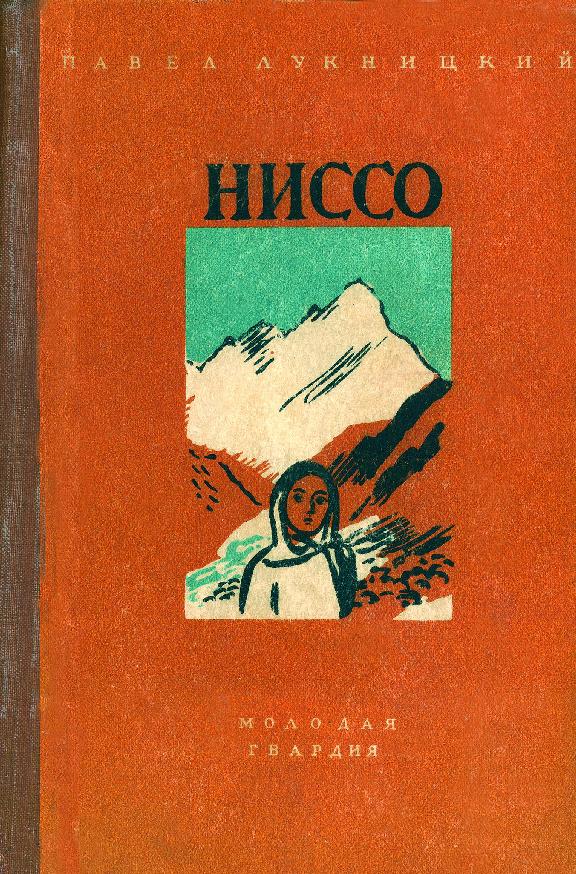---------------------------------------------------------------
© Copyright Павел Николаевич Лукницкий
From: [email protected]
Date: 10 Jul 2003
---------------------------------------------------------------
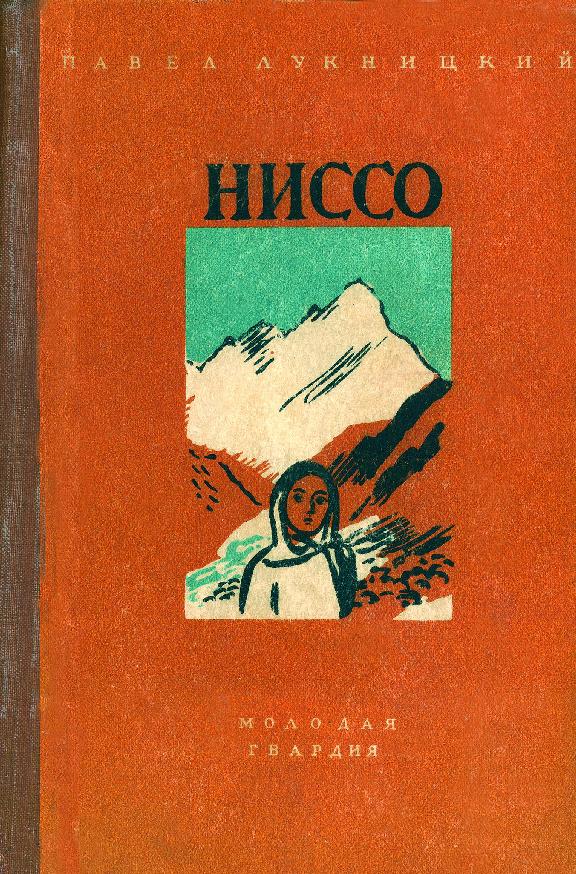 Роман П. Н. Лукницкого "Ниссо", написан перед Отечественной войной.
Переведен на десятки языков Европы и Азии.
По роману "Ниссо" созданы две оперы - композитором С. Баласаняном
(либретто Ценина), ставившаяся в Таджикистане и телевизионным центром в
Москве, и болгарским композитором Дмитром Ганевым. В 1966 году на экраны
вышел фильм "Ниссо" (Таджикфильм. Режиссер М. Арипов, сценарий П. Лукницкого
и Л. Рутицкого), сделанный по мотивам романа.По роману "Ниссо"
Д.Худоназаровым в 1979 году снят телевизионный многосерийный фильм по заказу
Гостелерадио СССР (сценарий В.Лукницкой).
Перу П. Н. Лукницкого принадлежит ряд романов, повестей, рассказов. В
числе его произведений много очерков, посвященных путешествиям по Памиру и
другим отдаленным горным районам Средней Азии, Казахстана, Заполярья. Немало
произведений П.Н. Лукницкого посвящено героической обороне Ленинграда в годы
Великой Отечественной войны. В 1961 году вышла в свет книга "На берегах
Невы", в 1964 - книга "Сквозь всю блокаду", в 1961, 1964 и 1966 годах -
трилогия, фронтовой дневник "Ленинград действует".
П. Н. Лукницкий - участник Великой Отечественной войны - награжден
орденами и медалями
.
Когда, преодолев Большую Ледниковую Область, ты захотел увидеть истоки
реки Сиатанг, ты прежде всего осилил труднейший перевал, взнесенный природой
на пять с половиною километров над уровнем моря. Встав над пропастью на
снежной обрывистой кромке этого перевала и обратившись лицом к югу, ты
увидел внизу острые хребты гигантских горных массивов, уходящие ряд за
рядом. Серые, иззубренные, скалистые, с почти отвесными склонами, они,
простираясь вдаль, в синюю глубину пространств, походили на спины
исполинских, недвижимых, навеки уснувших драконов. Разделенные провалами
таких же бесконечно длинных и все углубляющихся ущелий, они создали
впечатление мира дикого, мертвого, лишенного какой бы то ни было
органической жизни. Только тонкие облачка, курящиеся над ледяными зубцами
хребтов, свидетельствовали о том, что в этом первозданном мире существуют
переменчивость и движение. Да еще, заметив внизу застывшего в парящем полете
грифа, ты, путешественник, подумал, что эта огромная живая птица, кружащаяся
над хаосом древних морен, существует здесь вопреки законам природы.
Обратившись к карте, ты убедился в том, что ни сама Большая Ледниковая
Область, ни верховья видимых тобою рек на карте не обозначены. И вместо
каких бы то ни было точных географических начертаний на ней тянутся всего
лишь два дразнящих воображение слова: "Неисследованная область". Убедившись,
что спуститься здесь невозможно, ты перестал гадать, какое именно из диких
ущелий этих Высоких Гор называется ущельем реки Сиатанг.
Повернув обратно, ты ушел на север и целую неделю блуждал среди
безжизненных фирнов и ледников, ища пути назад, задыхаясь от недостатка
воздуха и только крепостью духа поддерживая в себе уверенность в том, что у
тебя хватит уменья и сил выбраться из этих страшных необитаемых мест. А
потом еще две недели ты спускался верхом в те жаркие и благодатные долины,
где советские люди возделывают хлопок, живя в мирном неустанном труде.
И когда тебя спросили о стране Сиатанг, ты сказал, что ничего не знаешь
о ней, хотя она лежала перед тобой как на ладони. И добавил, что, судя по
карте, проникнуть туда можно только кружным путем, пройдя сотни километров
по нагорьям Восточных Долин, достигнув Большой Пограничной Реки и
спустившись по узкой тропе до устья реки Сиатанг, - войдя, таким образом,
через полтора месяца странствий в ее ущелье не сверху, а снизу.
- Но и с той стороны, кажется, еще никто из исследователей в это ущелье
не заходил! - прибавил ты, подумав...
Сведения о реке Сиатанг, имевшиеся в описываемые - уже давние для нас
теперь - годы, были, конечно, беднее того, что известно ныне. Но перенесемся
в те годы и увидим: независимо от каких бы то ни было сообщений географов,
река Сиатанг, рожденная среди ледников, течет внизу по дну пропиленного ею
за десятки тысячелетий ущелья и дает жизнь маленькой народности горцев. Они
говорят на своем сиатангском наречии, имеют собственную, полную событий
историю и вместе со всей необъятной Советской страной после Октябрьской
революции начали жить по-новому.
За хребтами, образующими ущелье реки Сиатанг, на сотни километров
простираются другие хребты, разделенные другими ущельями, в каждом из
которых текут такие же, как Сиатанг, реки.
На скалистом береговом склоне одной из них ютится далекое от всего
мира, маленькое, еще недавно никому не ведомое селение Дуоб. Жители его
говорят на сиатангском наречии.
И кто бы мог думать, что норку ее
Зимой не разроет зверье?..
...Есть солнце, и камни, и ветер, и снег,
В мученьях за веком рождается век,
Но ты их сильней, Человек!..
Раздумья в Высоких Горах
Конечно, соглашаться на предложение Мир Али не следовало. Но, приехав в
маленькое, сжатое скалами селение Дуоб, он так вежливо разговаривал с
Розиа-Мо, так горячо убеждал ее, что она в конце концов согласилась. Что
было делать? С тех пор как муж ее умер, она выбивалась из сил, чтобы
прокормить себя и свою маленькую Ниссо, и все-таки голодала. Мир Али сказал
ей: "Целое лето ты будешь работать в Яхбаре, у самого Азиз-хона, а осенью он
даст тебе овцу и столько муки, что, вернувшись в Дуоб, ты всю зиму будешь
жить так спокойно, как будто у тебя есть здоровый, богатый муж". Розиа-Мо
посоветовалась со своей сестрой Тура-Мо. Сестра согласилась за половину
заработка, который Розиа-Мо принесет осенью, взять к себе на лето маленькую
Ниссо.
Розиа-Мо завалила вход в свое жилище большим камнем и, до глаз укрыв
лицо белым покрывалом, пошла впереди осла, на котором выехал из селения Мир
Али. Никто не провожал Розиа-Мо: жители Дуоба мало интересовались ее
судьбой, а Тура-Мо еще до рассвета ушла на Верхнее Пастбище. Розиа-Мо шла по
узкой каменистой тропинке, высеченной в скале. Мир Али ехал за нею молча,
поглядывая на реку, швыряющую пену к подножью откоса, над которым вилась
тропа. Розиа-Мо перед входом в теснину ущелья захотела в последний раз
взглянуть на родное селение, но, встретясь с суровым взглядом Мир Али,
отвернулась и опустила глаза.
Она пыталась представить себе свою будущую жизнь там, в Яхбаре,
расположенном за Большой Пограничной Рекой. Ничего не знала Розиа-Мо об этой
стране Яхбар, но о правителе ее, Азиз-хоне, многое слышала от соседей,
бывалых людей: они часто рассуждали между собой о богатстве его, и о
могуществе, и о власти. Что ждет ее там? Смутное беспокойство омрачало
Розиа-Мо...
Когда теснина расширилась, Розиа-Мо увидела на крошечной лужайке двух
лошадей и мальчика, прикорнувшего около камня. Мир Али отдал мальчику осла,
велел Розиа-Мо сесть на лошадь, сам сел на другую, и они двинулись дальше.
А к вечеру на каменистой террасе, там, где тропа спустилась к реке,
путники повстречались с группой всадников, и среди них Розиа-Мо узнала
ненавистного ей Алим-Шо. Она сразу поняла, что Мир Али ее обманул и что если
Алим-Шо подъедет к ней, то никогда уже не увидит она ни родного селения, ни
своей дочки Ниссо.
Этот Алим-Шо сватался за Розиа-Мо несколько лет назад и уехал,
взбешенный ее отказом. Этот Алим-Шо через год напал на ее мужа по дороге к
Верхнему Пастбищу и избил его камнями так, что муж уже не мог больше
оправиться. Этот Алим-Шо после смерти мужа приезжал в Дуоб свататься еще раз
и уехал еще более взбешенным, когда Розиа-Мо при всех плюнула ему в лицо.
Теперь он приближался к ней на своем яхбарском коне, улыбаясь так, будто
ничего не случилось.
В страшной тревоге Розиа-Мо быстро осмотрелась вокруг. Старый Мир Али
ехал сзади и закрывал путь к отступлению. Направо высились отвесные склоны.
Налево шумела река. По ту сторону реки вилась такая же тропинка, и там не
было никого. Если бы Розиа-Мо рассудила здраво, она поняла бы, что все
равно, куда ни кинься, от всадников Алим-Шо ей не уйти. Даже если б она
домчалась до селения, кто вступился бы за нее? Но думать было некогда, и
только слепое отчаяние заставило ее решительно погнать своего коня в реку.
Умный горячий конь рванулся в поток, не побоявшись бурлящей воды. Шум реки
заглушил гневные крики Алим-Шо и его приятелей. Они кинулись в воду, но
беглянка раньше их успела выбраться на противоположный берег.
И по тропе, по какой разумный человек ездит только шагом, Розиа-Мо
помчалась карьером. Она не слышала голосов мужчин, кричавших ей что-то
вдогонку, и ни разу не обернулась. В паническом страхе она погоняла коня. И
то, что должно было случиться, случилось. На крутом повороте узкой тропы
нависшая скала вышибла женщину из седла. Ее раздробленная нога осталась в
стремени. Розиа-Мо волочилась головой по камням, пока испуганный конь не
остановился; и когда Алим-Шо медленно выехал из-за поворота тропы, он
увидел, что Розиа-Мо мертва. Он наклонился над ней, сжав губы и отирая
рукавом халата свой потный, блестящий лоб. Дотронулся до ее окровавленного,
разбитого тела и пробормотал про себя молитву. А когда подъехали его
приятели, они, спешившись, молча постояли над Розиа-Мо, не глядя один на
другого.
А затем, совершив все, что полагается в таких случаях совершать
правоверным шиитам, сбросили в реку труп Розиа-Мо и, забрав с собою коня,
уехали во владение Азиз-хона. А Мир Али, подкупленный ими слуга Азиз-хона,
вернулся к своему хозяину, решив, что язык его никогда не разболтает
историю, которую в этот вечер видели его глаза.
Через несколько дней старый пастух, возвращаясь в селение, нашел у
прибрежных скал изуродованное тело Розиа-Мо - еще недавно сильной и красивой
женщины. Бедняки-соседи и Тура-Мо пришли сюда на привычные похороны, но
никто не узнал истинной причины смерти Розиа-Мо.
А потом старики собрались и решили, что маленькая Ниссо должна остаться
у Тура-Мо. И гневная Тура-Мо вынуждена была согласиться, потому что ни один
из ее доводов на стариков не подействовал. "Все бедны, - сказали они, - все
не хотят лишнего рта, все в зимние месяцы кормятся только вареными травами,
но Розиа-Мо была твоею сестрой, и ты должна взять девочку к себе".
И Ниссо осталась у своей тетки.
Будь Зенат-Шо дома, он, вероятно, быстро успокоил бы Тура-Мо, сказав
ей: "Если собаке подкинуть чужого щенка, она все-таки станет его кормить;
девчонка будет есть то, что мы едим сами! А потом станет нам помогать -
разве плохо, когда в доме есть лишние руки?"
У Зенат-Шо слишком мягкий характер, он всегда думает о других, а о себе
забывает. Ведь не всю жизнь девчонка может бегать по селению голой - ей
понадобится рубашка, да мало ли что ей понадобится, пока она будет расти?..
Зенат-Шо нет дома, и неизвестно, когда он вернется. Два года назад он ушел
на заработки за пределы Высоких Гор. Кто может знать: жив он или умер?
Тура-Мо вынимает сушеные тутовые ягоды из мешка и швыряет горсть их на
плоскую плиту сланца. Кладет ладонь на большой круглый камень, раскачивает
его, давит сухие ягоды, толчет их в муку, собирает муку в деревянную чашку,
бросает на плоскую плиту новую горсть сухих ягод...
Домотканая рубаха Тура-Мо грязна и изодрана, в прорехах поблескивает ее
загорелое тело. Она худа, но руки ее хорошо развиты и сильны, - круглый
камень поворачивается ритмически, похрустывая иссушенным прошлогодним тутом.
Непослушные черные привязные косы мешают ей, она беспрестанно откидывает их
резким движением голого локтя. Такие косы, сплетенные из козьей шерсти,
носят все женщины Высоких Гор, подвязывая их к своим волосам. У Тура-Мо они
черные, давно уже черные. Многое отдала бы Тура-Мо за право вернуть свои
красные косы, какие подвязывала, когда была девушкой. Но это время ушло, - у
Тура-Мо уже двое детей, надо думать только о них. Был еще третий ребенок, но
он умер от оспы, да, пожалуй, жалеть о нем и не стоит. Птицы, овцы, даже
змеи могут много есть, ни о чем не заботиться, делать то, что им хочется, а
ей, Тура-Мо, на что ее молодость, если даже самое маленькое желание надо
всегда гнать от себя?
Нет, так продолжаться не может. Разве в силах одинокая женщина
прокормить своих детей, да еще чужого ребенка? Если Зенат-Шо умер, зачем его
ждать? Не пора ли подумать о другом муже? Если жив - сам виноват, что не
возвращается до сих пор! Пусть Бондай-Шо, сосед Тура-Мо, - юродивый и
зобатый; без богатства где найдешь здорового и свободного мужчину? Он все
чаще приходит во двор и спрашивает: "Не забежал ли к тебе, Тура-Мо, мой
козленок?" Какой у него козленок, - нет у него ничего, кроме тощего, с
облезлой шерстью осла. Но Тура-Мо будто не знает, до сих пор она все
отвечает: "Не видела. Наверное, не забегал". А ведь она молода, ее тело
налито жизнью, как зрелый посев, и все чаще ей хочется ответить ему:
"Посмотри, Бондай-Шо, кажется, что-то мелькнуло, когда я ходила к каналу,
может быть, и правда, твой козленок пробрался в мой дом". У Бондай-Шо
мускулистая грудь и крепкие руки, он хорошо поет свои странные песни, он
ходит по другим селениям и всегда приносит домой баранье сало, сушеное мясо,
мешок абрикосовых косточек или тута. Зоб? Что значит зоб, кто здесь обращает
на это внимание? Хасоф тоже зобатый, а имеет красивую, молодую жену.
Хушвакт-зода, и Махмут, и Худай-Назар - все зобатые, а у всех жены, и жилье,
и тутовые деревья, и никто не смотрит на них иначе, чем на других мужчин.
Бондай-Шо, как и все, умеет сеять зерно, обрабатывать землю, пасти скот,
направлять воду в каналы. Может быть, в Бондай-Шо сидит злой дух? Ведь вот
когда Бондай-Шо катается по земле, и кричит, и беснуется, и плюется, -
наверное, в нем волнуется дэв, стараясь выскочить из него. Но это с
Бондай-Шо случается редко, а чаще всего он беспечен и весел, даже веселее
других. Он, наверное, скупится на подарки Барад-беку, чтобы получить от него
хороший амулет, который избавил бы его от таких беснований. А если он найдет
в ее доме своего козленка, она заставит его купить хороший амулет!
Наполнив ягодною мукой деревянную чашку, Тура-Мо несет ее дом. Босые
крепкие ноги ее белы от тутовой пыли; войдя в дом, Тура-Мо ставит загорелую
ногу на край деревянной чашки, осторожно сгребает с нее в чашку мучную пыль
- надо беречь каждую крупинку муки, особенно теперь, когда в доме появился
лишний рот. Высыпает муку на платок, возвращается с пустой чашкой к плоскому
камню, продолжает помол. Солнце накалило камень, но руки Тура-Мо не боятся
ни холода, ни жары, она прилежно работает и думает о Ниссо... Может быть,
Ниссо несчастливая? Может быть, от ее присутствия в доме будет сглаз родным
детям? Может быть, от Ниссо распространится на них несчастье?.. Девчонке
теперь восемь лет, по всем признакам, она как будто здорова... И надо
думать, никаких злых дэвов в ней нет. Пожалуй, Тура-Мо нечего опасаться.
Летом каждая ступенька, подпертая каменною стеной, станет маленьким, в
две-три квадратные сажени, полем: натаскают на носилках земли, рассыплют ее
темным и ровным слоем, посеют просо, ячмень, горох.
Но пока еще не ушла зима. Крошечные площадки еще завалены неубранными,
прикрытыми снегом камнями. Камни падали всю зиму с той гигантской осыпи, что
высится над селением, уходя к остроконечным вершинам горы. Правда, эти камни
уже не ворочаются под ногами, они крепко смерзлись, но под снегом не видно
их острых ребер, идти по ним босиком очень больно. С площадки на площадку,
как по лестнице великанов, цепляясь за выступы грубо сложенных стен,
спускается к реке Ниссо. Вся ее забота - не уронить большой глиняный кувшин;
она то ставит его себе на голову, то прижимает к груди, обнимая тоненькими
руками.
Черные волосы Ниссо слиплись - самой ей некогда их расчесывать, да и
нечем: деревянный гребешок есть только у тетки, а тетка не позволяет трогать
его. Тетка несправедлива: родным детям, Зайбо и Меджиду, она иной раз
расчесывает волосы гребнем, а Ниссо - никогда. Но Ниссо уже привыкла ничего
не просить у тетки, - в лучшем случае тетка только накричит на нее. Вот
придет лето, вода станет теплее, Ниссо сама вымоет себе волосы.
С гор дует острый, ледяной ветер. На Ниссо рубашка из брезентовой
торбы, слишком короткая, - но хорошо, что есть хоть такая. Эту торбу Тура-Мо
нашла в доме своей покойной сестры еще в прошлом году - вероятно, ее забыл
Мир Али, когда приезжал, чтобы увезти с собой Розиа-Мо. Неоткуда больше было
взяться торбе: ведь в Дуобе ни одной лошади нет, а если б и были, то кто в
этих местах стал бы тратить такой хороший кусок завезенного издалека
брезента на лошадиную торбу? В прошлом году Ниссо бегала по селению голой,
но ведь ей уже восемь лет, она уже скоро невеста, и соседи убедили Тура-Мо,
что девочке пора быть одетой. Тура-Мо долго упорствовала - ведь для торбы
можно найти лучшее применение, - но с мнением соседей все-таки следует
считаться! Кляня девчонку, на которую всегда надо тратиться, Тура-Мо,
наконец, прорезала торбу, пришила к ней две шерстяные тесемки, со злобой
сказала: "Носи!"
Новое платье Ниссо походило на черепаший панцирь. Под мышками и на шее
Ниссо появились багровые полосы: через несколько дней они превратились в
гноящиеся раны. Ниссо не плакала, потому что была странной девочкой: она не
плакала никогда. Воздух в селении был чист и целителен, вскоре от ран
остались только рубцы, похожие на мозоли, а жесткое брезентовое платье могло
не развалиться до конца жизни Ниссо.
Ниссо спускается к грохочущей реке. Подойдя к берегу, спрыгивает на
большой плоский камень, охваченный бурлящей пеной, наклоняется, крепко держа
кувшин. Холодная вода закипает у его горлышка, стремится вырвать кувшин из
рук Ниссо. С трудом подняв его сначала на плечо, затем на голову, Ниссо
устремляется в обратный путь.
Проклятый ветер! Он насквозь пронизывает тело. Когда же, наконец,
разомкнутся тучи над этим ущельем? Всю зиму они плывут и плывут, все в одном
направлении, от тех ледяных вершин, с которых бежит река. Ниссо ничего в
мире не знает, но не сомневается, что, когда пройдут вниз все тучи, появится
солнце, ветер станет теплее и ходить за водой будет гораздо легче.
А главное - если б не трещина в основании кувшина, из которой вечно
течет вода! Ниссо старательно зажимает трещину пальцами, но вода все-таки
струится по руке вниз, пробегая по лицу и по шее до голых плеч, замерзает на
ледяном ветру. Льдинки жгут, колют плечи Ниссо, а рук от кувшина отнять
нельзя. Стуча зубами, дрожа, девочка осторожно взбирается по камням,
стараясь не поскользнуться. Теперь она поднимается к дому по узкой тропинке:
этот путь гораздо дальше, но ведь с кувшином, полным воды, никак не
подняться по стенкам, разделяющим ступени полей.
Если б Розиа-Мо была жива, она, наверное, ходила бы за водой сама, -
все взрослые женщины зимой ходят за водой сами, но Тура-Мо занята другими
делами, ей совсем неинтересно думать о чужой девчонке! Вот и сегодня, - куда
ушла Тура-Мо? Сказала только детям: "Сидите тут тихо!" - и ушла, и весь день
ее нет. Впрочем, Ниссо очень хорошо знает, где проводит дни тетка. Конечно,
она у этого Бондай-Шо, который только и знает, что валяется на своей
козлиной шкуре да бренчит на двуструнке. Каждый день Тура-Мо уходит к нему,
и они запирают дверь, и больше никто в селении целый день их не видит!
Ниссо окоченела и торопится к дому, но с кувшином в гору бежать нельзя,
она только старается быстрее перебирать ногами и тяжело дышит сквозь
стиснутые зубы.
Каменные лачуги селения черны. Каждая из них окружена пустым,
омертвелым садом, запрятана в каменные ограды. Улиц в Дуобе нет, есть только
узкие, извилистые проходы между оградами, - такие узкие, что в них с трудом
могут разойтись два осла. Ледяной горный ветер вымел все селение, сугробы
снега удерживаются только в самых глухих углах между большими камнями.
Жителей не видно - кому охота выбираться на такой ветер, да и что делать в
селении зимою? Тем, у кого еще остались тутовая мука и сушеные яблоки, нет
нужды выходить из дому, - как-нибудь до весны протянут.
Ледяная вода все течет, замерзает на плечах и груди Ниссо. Но вот она
добралась до дому, и кувшин еще до половины полон водой. Ниссо входит в дом,
кидает взгляд на Зайбо и Меджида, катающих в углу бараньи позвонки, устало
выливает воду из кувшина в чугунный котел, вмазанный в очаг. Прыгает, трет
тело руками, обкусывает ледяную корку, налипшую на руки.
- Ниссо, есть хочу... Дай мне есть... - слезливо ноет шестилетний
Меджид.
- Молчи! Я сама хочу. Надо еще идти за травой, - говорит Ниссо, дав
Меджиду по уху. - Сидите тихо, пойду за огнем.
Спички в Дуобе есть только у почтенного Барад-бека. Но и хвороста,
чтобы поддерживать огонь постоянно, тоже ни у кого не хватило бы. Жители
Дуоба держат негасимый огонь по очереди. Ниссо, взяв глиняную чашку,
выбегает из дому и через несколько минут возвращается, прижимая чашку к
животу.
Осторожно хватая принесенные угли пальцами, она вкладывает их в очаг на
приготовленные куски сухого навоза. Прикрывает огонек ладонями, старательно
дует, пока всю ее голову не окутывает синеватый едкий дымок.
Меджид и Зайбо опять беззаботно играют в бараньи косточки.
- Смотри, чтоб огонь не потух! - сердито бросает Ниссо Меджиду и опять
выходит за дверь.
Свирепый ветер швыряет горсть снега в ее разгоряченное лицо. Ниссо
бежит по селению, прыгая с камня на камень. Она озабоченно размышляет: где
еще в ущелье над Дуобом могла сохраниться трава "щорск"?
Селение уже далеко внизу, горный ручей звенит по ущелью над глыбами
снега, огромные скалы беспорядочно нагромождены по берегам ручья. Кое-где
между ними торчат из-под снега сухие ветки кустарника.
Там, где Ниссо вчера нарвала травы, - вот под этой большой скалою, -
сегодня нет ничего: кто-то уже побывал здесь, весь снег разрыт. Ага! Тут
прогуливался осел Барад-бека - вот следы его; конечно, именно этот осел!
Ниссо безошибочно узнает следы любого животного - много ли их в Дуобе! Ах,
бродяга, объел всю траву! И ведь выбирает, проклятый, именно ту, из которой
можно варить похлебку!.. Может быть, вон за тем камнем сохранилась? Там нет
никаких следов.
Ниссо обходит скалу, разгребает босыми ногами снег, но под снегом
только голые камни. Переходит в другое место, натыкается на куст облепихи, -
колючки впиваются в ноги. Ниссо садится прямо на снег, сердито вытаскивает
из ноги колючки, размазывает по ноге кровь, а глазами уже рыщет вокруг:
может быть, там? Или там?.. Прямо беда: с каждым днем все меньше травы в
ущелье, скоро, наверное, придется ходить за перевал... Но пока дойдешь туда,
пожалуй, совсем замерзнешь!
Наконец под одним из камней Ниссо замечает знакомую травинку. Быстро -
на этот раз руками - разгребает снег и, найдя пожелтевшие пучки, с
ожесточением рвет их. Надо бы нарвать сразу на несколько дней, но руки уже
окоченели, - скорее, скорее домой! Ниссо еще не научилась думать о
завтрашнем дне, она живет только сегодняшним и, не забросав несорванную
траву снегом, убегает вниз, прижимая к груди охапку обмерзшей травы.
Дома вода уже закипает. Ниссо бросает в котел всю добычу и, сняв себя
холодную рубашку, сидя голая у огня, протягивает к нему то руки, то ноги.
Понемногу тепло наполняет ее, и она перестает дрожать.
Трава варится долго. Ниссо беспечно глядит в котел, но голод уже сводит
ей рот. Она зевает от голода и помешивает варево большой деревянной ложкой.
Меджид и Зайбо забыли игры. Не утерпев, Меджид пытается залезть в котел
пальцем, но Ниссо звонко шлепает его, и он, отдернув руку, как ни в чем не
бывало продолжает глядеть на закруженную кипящей водой траву.
Наконец похлебка готова. Надо бы гасить огонь - ведь каждый кусочек
сухого навоза на счету, но Ниссо медлит: так хорошо течет от огня теплый
воздух! Он отгоняет мороз, проникающий сквозь щели между камнями, из которых
сложены стены жилища.
Ниссо сует Зайбо деревянную ложку.
- Ешь!
Зайбо двумя ручонками ворочает ложку в котле, стараясь выудить как
можно больше вареной травы.
- Скорее! - говорит Ниссо, и Зайбо ест, обжигаясь.
Ниссо передает ложку Меджиду, ждет своей очереди. Ветер дует сквозь
стены, холодит голую спину Ниссо, но грудь ее раскраснелась от жары.
Пятилетняя Зайбо в куске козьей шкуры, обвязанной вокруг ее тельца шерстяной
веревкой, похожа на маленькую обезьянку. Меджид с ногами увяз в лохмотьях,
когда-то бывших холстом. Ложка ходит из рук в руки, все едят жадно и молча,
детские животы надуваются: трава съедена, но горячей потемневшей воды еще
много.
Дом Тура-Мо ничем не отличается от других домов маленького селения.
Вдоль грубо сложенных каменных стен тянутся широкие нары из глины. Нары
разбиты на отдельные части поперечными перегородками. В углах жилища они
образуют клетушки. Раньше, когда Тура-Мо жила лучше, в клетушках зимой
ягнились овцы, хранились мука, сено, солома; выше - на поперечных полках -
стояли деревянные чашки с кислым молоком, козьим сыром, просяными лепешками.
Теперь эти клетушки пусты - у Тура-Мо нет даже одеяла, и ночью укрыться
нечем.
У самого входа, налево от него, - загородка: корова Тура-Мо еще жива,
но страшно отощала, ее давно кормят только сухими листьями тутовника,
выпрошенными в долг у Барад-бека. Если он откажется дать еще, то корову
придется зарезать на мясо, а Тура-Мо скорее позволит отрезать себе руку, чем
лишится коровы. Ниссо дружит с коровой. Ниссо чаще всего спит вместе с ней,
свернувшись клубочком, прижавшись к ее теплому боку. Меджид и Зайбо по ночам
прижимаются к Тура-Мо; прикрытая двумя джутовыми мешками, она спит прямо на
нарах, у самого очага, хранящего ночью остатки тепла. Для Ниссо места здесь
нет. Ну и пусть: спать с коровой гораздо спокойнее, корова привыкла к Ниссо
- не придавит ее, не ударит. Ее зовут Голубые Рога, но рога у нее вовсе не
голубые и очень маленькие, она черная, лоб белый. Ниссо знает, что Голубые
Рога - очень доброе и нежное животное, не однажды бывало - Ниссо просыпалась
оттого, что Голубые Рога лизала ее лицо своим шершавым языком. Ниссо любит
корову и, пожалуй, больше никого на свете не любит. И сегодня Ниссо тоже
оставила ей два пучка добытой под снегом травы, - вот сейчас, как только
кончит есть похлебку, отнесет эти два пучка корове, приляжет с ней рядом и
будет слушать урчание ее впалого живота и скрип плоских, стертых зубов...
Ниссо тушит огонь очага круглым камнем. Едкий дым растекается по всему
жилищу. Меджид и Зайбо, свернувшись, как котята, уже заснули. Ниссо
оттаскивает их в сторону, чтобы во сне они не свалились в очаг, берет свое
горячее, но все еще сырое платье, пучки травы, лежавшие под ним, и
направляется к загородке, за которой ее ждет Голубые Рога.
Но в жилище входит необычайно веселая Тура-Мо. Ее длинная белая рубаха,
под которой только штаны, запорошена снегом, ее косы растрепаны, на конце
правой привязной косы болтается большой ключ от кладовки, от той кладовки, в
которой - Ниссо это знает наверное - давно уже ничего нет. Смуглое лицо
тетки, большие темные глаза ее не такие, как всегда: Тура-Мо улыбается. Это
удивительно, что Тура-Мо улыбается. Ниссо не помнит, чтобы тетка улыбалась.
Странные глаза у тетки сейчас: смеющиеся, острые и блестящие. Ниссо
старается прошмыгнуть за перегородку, но Тура-Мо толчком возвращает девочку
к очагу. Ниссо молча садится, потупив взор и прикрывая платьем пучки травы,
приготовленной для коровы. Но Тура-Мо как будто не обращает на Ниссо
никакого внимания: отвернулась, закинула ладони под косы, полузакрыла глаза,
расхаживает вдоль и поперек жилища. Ниссо искоса наблюдает за непонятным
поведением тетки. Обычно Тура-Мо придет, сядет у очага, даст Меджиду или
Ниссо подзатыльника или, напротив, приласкает Зайбо, начнет есть молча и о
чем-то задумавшись, потом долго, сомкнув губы, сидит без движения - всегда
мрачная, всегда недоступная.
Сегодня с ней что-то особенное: ходит, будто танцует, и шаг у нее
легкий, глядит в потолок, улыбается. Ниссо наблюдает за ней и думает: не
убежать ли к корове? - но боится обратить на себя внимание тетки, - лучше не
шевелиться пока!
Тура-Мо вдруг начинает петь, - без всяких слов, только тянет на все
лады одно протяжное: "А-а-а..." Поет и ходит, как сумасшедшая. Ходит все
быстрее и быстрее, приплясывает, и косы ее развеваются, рубаха зыблется
волнами по ее тощему гибкому телу. Никогда не пела так тетка, и Ниссо уже не
на шутку страшно. Что будет дальше?
Разом умолкнув, Тура-Мо садится на нары рядом с Ниссо. Лицо Тура-Мо
весело и возбужденно. Сунув руку за пазуху, она протягивает Ниссо что-то
розовое:
- На, глупая, ешь!
В пальцах Тура-Мо кусочек розовой каменной соли - лакомство, невиданное
давно. Ниссо опасливо глядит на кусочек, не решаясь принять его.
- Ешь, - смеясь, повторяет Тура-Мо и сует соль прямо в рот Ниссо.
Ниссо чувствует во рту приятный вкус тающей соли, но все еще боится,
ласка тетки так необычна, что страх одолевает Ниссо все больше.
Тура-Мо, охватив руками Ниссо, начинает покачиваться вместе с нею из
стороны в сторону. Опять прикрывает глаза, опять тянет сквозь зубы:
"А-а-а... а-а-а!.." Ниссо дрожит. Тура-Мо покачивается, но все тише, тише.
Замолкает. Руки ее слабеют. Ниссо, думая, что тетка заснула, осторожно
старается освободиться из ее рук.
Но Тура-Мо вдруг открывает глаза, глядит на Ниссо иначе - холодно,
жестко, так, как глядит всегда, и грубо отстраняет девочку. Ниссо
отскакивает от очага.
- Ты куда? - кричит Тура-Мо, и Ниссо разом останавливается. И уже
обычным, раздраженным тоном тетка начинает: - Похлебку варила? Где огонь?
Почему в котле одна только вода? Весь день тут торчала, лентяйка?
Ниссо, голая, как изваяние, стоит, опустив лицо. В руках ее платье, в
котором завернуты два пучка травы.
- Отвечай!
- Варила, - тихо отвечает Ниссо.
- Значит, сама наелась, а мне не нужно? А я, что же, по твоей доброте
должна быть голодной? Это что у тебя в руках? Почему не сварила?
- Голубые Рога...
- Вот как! - впадает в ярость Тура-Мо. - О корове ты думаешь, на тетку
тебе наплевать?! Или я тебя, проклятую, даром держу у себя, кормлю, одеваю?
Неблагодарная дрянь! Выгоню вот на снег, ищи себе жилье в волчьих берлогах!
Иди теперь за огнем, а это давай сюда!
И, вырвав у Ниссо траву, Тура-Мо злобно швырнула ее в котел. Ниссо,
сжав губы, без звука двинулась к выходу. Выскользнула на морозный ветер,
надела на себя платье и медленно пошла к соседу - просить углей.
Ночью, когда, прижавшись к шерстистой шкуре коровы, Ниссо спала, ее
разбудило какое-то всхлипывание. Ниссо прислушалась. В темноте громко
плакала тетка. Умолкала и начинала всхлипывать снова. Потом раздался
пронзительный, испуганный плач Зайбо. Тетка умолкла и, что-то бормоча, стала
успокаивать дочку. Голубые Рога повернула голову, ткнулась мокрой мордой в
колени Ниссо и вздохнула протяжно, длинным коровьим вздохом, обдав Ниссо
струей горячего воздуха. Ниссо еще теснее прижалась к корове и, глядя в
темноту, стала раздумывать о том, что могло быть причиной недавнего
странного веселья тетки и почему она плакала сейчас, ночью? Ветер
посвистывал в щелях между камнями так, будто в нем кружились демоны гор.
-
Пойду я
, -
говорит Бондай-Шо. - Со мной пойдешь?
- Не пойду. Надо камни убрать. Работать надо...
Вокруг губ Тура-Мо сухая, горькая складка. Ее не было в прошлом году.
- Кому нужен твой патук? Ноги кривыми станут. Идем со мной лучше.
- Не пойду. Пусть кривые - зато не умру.
- Тебе весело жить надо, а ты не идешь. Я пойду.
- Иди. Принесешь?
- Принесу.
И Бондай-Шо ушел. Рваный халат на голом теле, двуструнка в руках, за
плечами пустой козий мешок. Без мешка не переправиться через реку, а
переправляться надо во многих местах. Ушел.
Вот спускается по тропе: широкие плечи, бритая голова.
Вот коричневая фигурка далеко внизу, у реки, возится, надувает
плавательный мешок.
Вот поднял халат на плечи, взял мешок под живот - и в воду. Лег на него
и черной точкой понесся в блистающей пене течения: взмахивает рукой и
ногами.
Вот скрылся за мысом...
В ущелье весна. Солнце жжет горячо, но ветер еще несет дыхание льдов.
Вверху, над ущельем, слепят глаза ледяные пирамиды. Но с ними уже не
справиться солнцу.
Целую неделю нет Бондай-Шо. Без него Тура-Мо приходит в себя. Расчищены
от камней три ступени на лестнице крошечных полей селения. Натасканная
деревянными чашками земля слежалась за зиму, жесткой коркой покрывает
ступени. Долгими утрами трудится Тура-Мо: к спиленным козьим рогам привязан
сыромятный ремень, он обвивает Тура-Мо. А на козьих рогах большой камень,
для тяжести, чтобы плуг шел ровнее.
На других полях работают мужчины: разве дело женщины пахать землю?
Никто не поможет Тура-Мо. Но никто и не смеется над ней, все знают: она
одна, а Бондай-Шо одержимый. И если она сеет патук, то что же ей делать? Ни
проса, ни ячменя не согласился дать ей в долг почтенный Барад-бек. Пусть от
патука кривятся ноги, но зато он даст урожай сам-пятнадцать и может расти
чуть не на голом камне. Конечно, Тура-Мо сумасшедшая: разве можно сеять одни
только зерна патука? Ну пусть бы еще пополам с горохом, все-таки будет
питательная мука. Такую можно есть целый месяц - дольше, конечно, нельзя;
если есть дольше - обязательно заболеешь. Жилы под коленями стянутся, кости
начнут ныть и болеть, ноги скривятся, как серп. Но Тура-Мо не слушает
никого, сеет зеленые зерна и знать ничего не хочет. Ну, да всякий делает то,
что ему нужно, а когда нечего есть, и патук еда!
Целую неделю нет Бондай-Шо, и за целую неделю Тура-Мо ни с кем не
перемолвилась словом. Только отрывисто бросает Ниссо: "Принеси воды", "Подай
камень", "Раздуй угли", - но разве это слова? Ниссо делает все, что
приказывает ей Тура-Мо, и тоже молчит. Ниссо никогда не противоречит тетке,
- молчит так, словно родилась без языка. Но, кажется, она довольна, что нет
Бондай-Шо: без него тетка всегда одинаковая - сумрачная и злая. Нет ничего
хуже тех дней, когда она смеется, приплясывает, ходит, как пьяная. До этой
зимы никогда не бывало с теткой такого, а теперь бывает все чаще, стоит
только ей провести день с Бондай-Шо. Глаза ее горят, слова, самые разные,
цепляются одно за другое без смысла; веселье и ласки ее сменяются такой
яростью, будто в нее вселяются дэвы; оставаясь одна, тетка царапает себе
лицо и рыдает целыми ночами. И это так страшно, что лучше, если бы она била
Ниссо... И несколько дней потом Тура-Мо совсем не похожа на человека: не
ест, не работает. Пусть бы лучше Бондай-Шо не возвращался совсем!
На восьмые сутки Бондай-Шо вернулся. Издали увидела его Ниссо: он
поднимался от реки по узкой тропинке, таща на себе тяжелый мешок. Взглянув
туда, где Тура-Мо очищала от камней четвертную ступеньку посева, Ниссо
увидела, что тетка, бросив работу, бежит навстречу Бондай-Шо. Они сошлись у
входа в его жилище. Тура-Мо о чем-то спросила его, и он потряс на ладони
туго набитый маленький мешочек. Потом они вошли в дом. Ниссо подумала, что,
верно, Бондай-Шо принес с собой еды: может быть, вареную козлятину, может
быть, просяные лепешки? Ведь он всегда приносил с собой еду. И подумала еще,
что они все съедят сами. Прячась за камнями, Ниссо тихо прокралась к дому
Бондай-Шо со стороны ограды.
Дом Бондай-Шо, как и все дома в Дуобе, был с плоской крышей и без окон.
Стоя у стены, Ниссо ничего не могла увидеть. Ловко цепляясь за выступы
камней, упираясь в тутовое дерево, приникшее к дому, Ниссо выбралась на
глинобитную крышу, подползла к дымовому отверстию. Она очень хорошо
понимала, что если тетка или Бондай-Шо обнаружат ее, то ей несдобровать, но
еще лучше знала, что успеет вовремя ускользнуть. Отсюда она услышала их
разговор:
- Они сидели кругом и пили чай: какой это был чай! В нем было много
соли, и сала, и молока; мои ноздри слышали его запах, я не помню, когда я
пил такой чай! Азиз-хон сказал, что всех нас угостит, если ему будет весело.
- А кто еще был? - услышала Ниссо голос тетки.
- Много народу. С нашей стороны - из Сиатанга и из Зархока; и с той
стороны - разве я знаю названия всех селений! Много людей, говорю, - большой
праздник! Таких, как я, тоже много пришло - наверно, человек сорок. В котлах
варились бараны... Я думал: буду веселее всех, иначе Азиз-хон мне ничего не
даст. Они сидели, все старики, и спрашивали меня: почему не пришел
Барад-бек? Я отвечал всем: "У нашего Барад-бека болят глаза". Может быть, и
правда - глаза болят у него?
- Он дал мне восемь тюбетеек зерна патука.
- Что сказал?
- Сказал: молоком отдай.
- А гороху не дал?
- Жди от него! Посеяла один патук.
- А вот мне Азиз-хон дал гороху, смотри - полмешка. Посеем его, хорошая
мука будет.
- За что дал?
- Очень смешно. Новую игру Азиз-хон придумал! На меня овчину изнанкой
надели, на спине горб из камня, в руках палка, очень дряхлый старик из меня
получился. Зогара одели женщиной. Лицо белым платком закрыли, даже шерстяные
косы привязали. Вот я ухаживаю за "ней", "она" гонит меня. Очень ловко
играл... Так смеялись, чуть животы не порвали.
- А мясо откуда взял?
- Мясо? Всадники риссалядара съехались. Козла драли...
- И сам риссалядар был?
- Сам не был, не дружит с ханом... Козла драли, каждый хотел удаль свою
показать, первым козла к ногам Азиз-хона бросить! Ха! Я думал, друг друга
они разорвут! А от козла только рваный мешок остался. Потом выбросили козла;
я и другие такие взяли его, сварили. А этот мальчишка, ханский змееныш,
Зогар, Азиз-хону пожаловался, хан выгнал меня... Все-таки мясо осталось!
- Ничего, хорошее мясо!.. А э т о г о много принес?
- Вот видишь!..
Ниссо слушала, затаив дыхание. Ей очень хотелось узнать, про что они
сейчас говорят? Она заглянула в дымовое отверстие. Тура-Мо сидела у очага,
обняв Бондай-Шо, и держала большой кусок вареной козлятины. Увидев мясо,
Ниссо почувствовала такой неукротимый голод, что забыла об осторожности: она
пододвинулась ближе к дымовому отверстию и нечаянно столкнула сухой кусочек
глины. Он со звоном упал на чугунный котел. Ниссо отпрянула назад, подползла
к краю крыши, схватилась за ветку дерева, соскользнула вниз и - бросилась
бежать.
Бондай-Шо и Тура-Мо весь день не выходили из дому. Полевая работа была
забыта. Вечером Ниссо еще раз прокралась к дому Бондай-Шо и услышала хриплое
пение Тура-Мо.
"Опять! - сказала себе Ниссо. - Опять с нею началось это!"
Наутро жители собирались гнать овец и коров на Верхнее Пастбище, чтобы
оставить там скот на все лето. Голубые Рога надо было присоединить к стаду.
Ниссо знала, что гнать корову придется ей, и с нетерпением ждала этого дня.
Ниссо помнила прошлое лето, проведенное на Верхнем Пастбище, - там было
хорошо: целый день пасешь среди сочной травы корову, а вечером вместе с
другими девочками и женщинами делаешь кислый сыр. Тетки нет, никто не
понукает, никто не ударит, а если и покричат, то и пусть кричат, - совсем не
страшно, когда на тебя кричат чужие.
Придет или не придет тетка к утру? Велит идти на Верхнее Пастбище или
нет? Без приказания тетки разве может Ниссо пойти завтра со всеми!
Всю ночь не спит Ниссо, тревожится, думает. А еще больше думает о
козлятине: съедят всю или не съедят? Ниссо кусает губы от голода. Меджид и
Зайбо с вечера наелись сырых зерен патука и спят теперь как ни в чем не
бывало. А Ниссо боится есть патук: все девочки кругом говорят, что нельзя
его есть. Ниссо не хочет, чтоб у нее скривились ноги, ведь у нее нет ни
матери, ни отца, - кто позаботится о ней, если она заболеет? Ночью Ниссо не
выдерживает: не может быть, чтоб Тура-Мо и Бондай-Шо всю ночь не спали! А
если спят, то...
У Ниссо нет никакого плана действий, просто неукротимый голод влечет ее
из дому. Погладив бок спящей коровы, Ниссо осторожно выходит за дверь.
Только б не залаяла собака соседа! Босые ноги легко ступают по камням, - ни
один камень под ногою не шелохнется. Через каменную ограду, через другую...
Луны нет, темно, но Ниссо помнит каждый камешек, их не надо даже ощупывать.
Вот и вход в дом Бондай-Шо! Кто-то дышит справа от входа, и Ниссо замирает у
стены. Прислушивается. Это дышит осел; значит, вечером он сам пришел с поля,
- конечно, ведь о нем забыли! Они спят: чуть доносится храп Бондай-Шо, а
тетки совсем не слышно, только бы не наткнуться на нее! Осел с шумом
поворачивается к Ниссо; с упавшим сердцем она замирает снова, но, собравшись
с духом, протягивает руку, гладит осла, - как бы не затрубил! Но осел узнает
ее, щиплет ее руку шершавыми губами, молчит. Ниссо становится на
четвереньки, вползает внутрь жилища, присев на корточки, затихает. Когда
дыхание ее успокаивается, она осторожно втягивает воздух ноздрями, - мясо
должно вкусно пахнуть. Но в доме пахнет совсем иначе, - что это за острый,
пряный запах? Он щекочет ноздри, хочется чихнуть, - только бы не чихнуть!
Это совсем не запах еды, все пропитано этим запахом! Что они жгли тут?..
Ниссо очень боится чихнуть, но терпеть больше невозможно. Забыв
осторожность, Ниссо крадется к очагу, тянет руки вперед, натыкается на
деревянную чашку. В ней кость, большая кость с мясом! Сердце Ниссо
колотится, но кость уже зажата в руке. Ниссо пятится, поворачивается о
опрометью кидается из дома. Никто в доме не шелохнулся, но Ниссо все-таки
бежит, не разбирая пути, больно ударяясь ногами о камни, а кусок козлятины -
уже во рту, и никакая сила не вырвет его из зубов Ниссо! Перепрыгнув через
ограду, через вторую, Ниссо спотыкается о камень и падает. Ей больно, но ей
не до боли. Она остается лежать и, ухватив руками кость, с жадностью,
по-звериному запускает зубы в кусок мяса и рвет его и проглатывает не
разжевывая. Потом она начинает есть медленнее, уже не глотает куски.
Постепенно приходит сытость, и Ниссо садится удобней на камень. Она
вспоминает о Зайбо и Меджиде, - может быть, пойти домой, разбудить их и дать
им по кусочку тоже? Конечно, надо им дать, только не все, - немножко! А
может быть, не давать? Ведь если там осталось еще мясо, то тетка утром,
наверное, их не забудет? Она всегда дает им все, что достанет сама.
В таких размышлениях Ниссо поднимается и медленно бредет к дому. Входит
в дом. Голубые Рога спит, Меджид и Зайбо спят тоже. Нет, не надо будить их:
раз они спят, значит им хорошо значит они не голодны. И ведь они с вечера
наелись патука. Лучше всего подождать до утра. Если Тура-Мо ничего не
принесет им - ну, тогда можно будет им дать по кусочку. А вдруг тогда они
расскажут тетке, что Ниссо кормила их козлятиной? Конечно, они могут
рассказать! Пусть лучше Тура-Мо думает, что кость украла собака соседа, ведь
могла же она украсть?.. А вдруг, если Ниссо сейчас заснет, собака в самом
деле прибежит и съест то, что у нее осталось?
Ниссо раздумывает: куда спрятать мясо? На дворе, под камнями? Но собака
может пронюхать, разрыть. Дома? Но вдруг тетка придет, пока Ниссо будет
спать. Нет! Лучше совсем не спать, держать добычу в руках, а утром съесть ее
всю. Конечно, так лучше!
Ниссо пробирается к корове, садится рядом, приникает к ней, зажимает
обглодыш между колен, сидит, старается не заснуть. Но она сыта, и ее клонит
ко сну. Через несколько минут она уже спит сидя, склонив голову и ровно,
безмятежно дыша.
Утром никто не приходит. Ниссо, проснувшись, испуганно шарит руками
вокруг себя. Но мясо лежит тут, и Ниссо съедает его одна.
Утренний туман поднимается над ущельем. Весь Дуоб в оживлении: женщины
сегодня уводят скот на Верхнее Пастбище. Но Тура-Мо курит опиум вдвоем с
Бондай-Шо. Она в другом мире, смутном, нездешнем. Никто на свете, кроме
Ниссо, не вспоминает о ней. И кому есть дело до горя Ниссо? Неподвижно сидит
она у входа в свое жилище и глядит на бредущий по селению скот: коровы, козы
и овцы, звеня чугунными колокольцами, выплывают из розового тумана и снова
скрываются в нем. А Голубые Рога, словно чуя свою беду, протяжно и грустно
мычит, высунув голову из-за загородки и блестящими глазами провожая уходящее
стадо.
Прошло несколько лет, - кажется, пять, может быть, даже больше: прошли
они так же, как перед тем проходили многие годы - ничто не менялось в Дуобе.
Несколько человек умерло, - их хоронили тихо, не слишком печалясь.
Народились новые дети, - никто им не радовался. Все знали: люди здесь
подобны камням, - сколько б ни сбрасывать их с полей, сверху навалятся
новые; всегда будут люди в селении, и всегда будет им голодно. И дом Тура-Мо
ничем не отличается от других домов, - пока живы в нем дети, они растут, как
бы ни приходилось им плохо.
Так же, как и раньше, жила Ниссо, так же таскала в кувшине воду и
варила похлебку, вела все хозяйство. Только к лохмотьям своего брезентового
платья подшила снизу несколько кусков от изодранного джутового мешка, -
теперь оно доходило ей до колен.
Никто не помогал Ниссо. Достигнув десятилетнего возраста, Меджид мог бы
уже многое делать в доме. Но главным его занятием оставалась стрельба из
лука камнями.
Этим занятием увлекались все мальчики Дуоба, но Меджид предавался ему с
особым увлечением. Он убивал птиц, щебетавших на ветвях тутовника, и ел их,
как кошка, сырыми. Он подстерегал девочек, спрятавшись за камнями, и однажды
влепил в лицо Зайбо такой камень, что искровенил ей всю щеку, разбил губу,
выбил два передних зуба. Зайбо без сознания упала со стены, на которую
залезла, чтобы дотянуться до диких яблок, выросших в саду соседа. Девочку
подобрал сосед Палавон-Назар, охотник и мастер по шитью сыромятной обуви из
кожи козла.
Тура-Мо не было в селении; с тех пор как она стала уходить с Бондай-Шо
в долину Большой Реки, ее редко видели в Дуобе, да и мало о ней вспоминали.
Палавон-Назар, высокий, сухой и одинокий, как каменная башня на вершине
горы, казался человеком суровым и жестким, но у него было доброе сердце. Он
взял Зайбо на руки и отнес ее к Барадбеку, чтобы тот посоветовался с богом о
наилучшем способе вылечить девочку.
Степенный, седобородый Барад-бек потыкал волосатым пальцем в
окровавленное лицо Зайбо, влил ей в рот какую-то жидкость, от которой она
пришла в себя и заплакала. Затем повесил ей на шею треугольный амулет -
зашитую в тряпочку молитву, предохраняющую от всяких болезней. Палавон-Назар
поблагодарил Барад-бека, дал ему за амулет шкурку недавно убитой лисы и
отнес Зайбо к себе в дом в полной уверенности, что она будет здорова.
Но через несколько дней раны на лице Зайбо начали гноиться, тело ее
пламенело, рот распух, и она отказывалась даже от кислого молока. Тогда
Палавон-Назар решил не пожалеть еще одну шкурку лисицы и отнес ее к дряхлой
Зебардор.
Старуха растопила баранье сало, смешала его с пеплом и сажей от
сожженного птичьего помета, прибавила в смесь горсть какого-то толченого
корня и густо обмазала этим лекарством лицо Зайбо.
Через несколько дней Зайбо действительно стало лучше, она уже бегала по
селению, с черным, страшным, словно обугленным, лицом, но беспечная, как все
дети в ее возрасте. Меджид, ссорясь с ней, по-прежнему потчевал ее тумаками,
и Ниссо напрасно драла ему уши после каждого его нападения на Зайбо.
К Ниссо Меджид относился с открытой ненавистью. При всяком удобном
случае он кричал ей, что она "незаконнорожденная лягушка", что она может
убираться из дома его матери, в котором живет из милости, и что он еще
отомстит ей за все придирки. Ниссо почти не обращала внимания на злобные
выкрики мальчишки, трудилась и любыми способами старалась добывать еду.
Меджид был глух на правое ухо и всегда кричал, что в его глухоте
виновата Ниссо, которая однажды особенно сильно надергала ему ухо. В
действительности дело обстояло иначе. Год назад в ухо Меджиду заползло
какое-то насекомое. Тура-Мо в тот раз привела сына к той же Зебардор, и
старуха за три тюбетейки тутовых ягод влила в ухо Меджида какую-то горячую
жидкость. Жидкость обратно не вылилась, застыла в ухе, и с тех пор Меджид
наполовину оглох. Меджид и сам помнил об этом случае, но ему гораздо
интереснее было обвинять в своей глухоте Ниссо.
Он вообще любил делать ей всякие гадости. Недавно, когда Тура-Мо на
неделю вернулась в Дуоб, Меджид, притаясь за камнем, подстерег Ниссо,
которая с кувшином на голове поднималась от реки, и ловко выстрелил из лука
камнем. Камень угодил в самую середину кувшина, кувшин разлетелся на куски,
вода окатила Ниссо с головы до ног.
Ниссо так и не узнала, почему друг кувшин разбился на ее голове, и
очень испугалась: "Наверное, речной дэв разгневался на меня". А Тура-Мо так
избила Ниссо, что та еле уползла от нее в пустой коровник и осталась там
лежать без движения. Позже Тура-Мо даже пожалела девчонку и ночью пришла
посмотреть, не умерла ли Ниссо. Но, услышав тихие - сквозь сон - стоны
Ниссо, вышла из коровника успокоенная.
На следующий день Тура-Мо вместе с Бондай-Шо снова ушла в долину
Большой Реки, потому что, как и он, жить без опиума уже не могла. Ниссо
утром встала и, превозмогая боль во всем теле, отправилась к Палавон-Назару
просить какой-нибудь сосуд для воды.
Палавон-Назар в это утро лил круглые пули для своего фитильного ружья.
Перед ним на камне стояла деревянная чашка с ячменным зерном. Он отсчитывал
по восемнадцати зерен для каждой пули, чтобы все они были равны по весу, и
очень искусно, в самодельной формочке, обливал эти зерна свинцом, добытым у
кочевников в Восточных Долинах. Поглядев на робко вошедшую Ниссо, заметив
под ее глазами большие синяки, Палавон-Назар поцокал языком, протянул ей
чашку с приготовленными для пуль зернами и сказал:
- Съешь, сколько хочешь. Тетка ушла?
Ниссо молча кивнула головой и запустила в рот целую пригоршню зерен.
Палавон-Назар искоса наблюдал за ней, встал, прошел в угол своего дома
и, вернувшись, протянул Ниссо ломоть сушеной козлятины.
Когда она рассказала ему о кувшине и доверчиво спросила, за что мог
речной дэв разгневаться на нее, - он, подумав, медленно ответил.
- За что гневаться на тебя? Твое сердце еще как абрикос без косточки.
Просто шутят с тобой дэвы. Есть у меня два кувшина, возьми один!
И Ниссо, от радости забыв поблагодарить Палавон-Назара, пошла домой с
новым кувшином.
Видимый мир Ниссо был ограничен двумя хребтами скалистых гор,
взнесенных над ущельем, на дне которого с неумолчным шумом кипела река. Вниз
по течению этот мир отсекался от всего неизвестного высоким отвесным мы сом,
за который убегала река. Вверх по течению река видна была далеко, до самых
бурунов, созданных нагроможденными скалами. Выше над ними синела поперечная
гряда, под которой в устье невидимого отсюда притока зеленела круглым
пятнышком одинокая купа деревьев. Над грядою, безмерно далекие, ощеривались
в небо зубцы неведомого хребта. Еще выше над ними всегда блистали на солнце
волнистые, тающие в голубом небе скаты Ледяных Высот. Летом оттуда текли
прохладные ветры, зимою, скрывая весь мир, волочились туманы и снежные тучи.
А селение Дуоб, в котором родилась и жила Ниссо, лепилось по склону,
переходившему выше в крутую каменистую осыпь, - с нее на поля и сады вечно
падали острые камни. Дуоб был разделен надвое каньоном бокового притока,
узкой щелью, прорезавшей склон сверху донизу. Боковой приток зимою вился
тоненьким звенящим ручьем, летом становился бурным рыжим потоком, яростно
лижущим стены, швыряющим свои водопады через головы скал, перегораживающих
его русло. К осени воды его очищались, смирялись, прозрачные, как хрусталь,
отражали в застоинах, на ступенчатых перепадах и небо, и ветки кустарника,
проросшего между камнями, и фигуры путников, бредущих по узкой тропе вдоль
ручья к летовью, на Верхнее Пастбище, или обратно - домой, в Дуоб.
Никуда, кроме Верхнего Пастбища, за всю свою жизнь Ниссо из селения не
ходила, но, становясь старше, все чаще задумывалась о том, что делается там,
за видимым ею миром, куда - в одну сторону - ходят Палавон-Назар и другие
охотники, и куда - в другую, - вниз по реке, исчезая за мысом, пропадают так
надолго Бондай-Шо и Тура-Мо.
Раньше Бондай-Шо всегда уплывал по реке на надутой козьей шкуре. Теперь
у него появилось пять шкур, и из четырех он делал плот, на который усаживал
Тура-Мо и укладывал связанного осла. Сам по-прежнему плыл на одном мешке,
держась рукою за плот и управляя им среди пенных гребней. Обратно тетка и
Бондай-Шо всегда возвращались пешком, по той тропинке, по которой когда-то
Розиа-Мо ушла вместе с незнакомым стариком.
Ниссо казалось, что она смутно помнит свою мать, но в действительности
она ничего не помнила, кроме рассказов Палавон-Назара, всегда говорившего
Ниссо, что ее мать была еще красивее Тура-Мо и гораздо добрее. Думая о
матери, Ниссо всегда как-то смешивала ее воображаемый образ с лицом
Палавон-Назара: он был совсем некрасив и, конечно, никак не похож на
Розиа-Мо, но глаза его были добрыми. Ни в чьи глаза, кроме глаз
Палавон-Назара да коровы Голубые Рога, Ниссо не решалась взглянуть прямо и
доверчиво. Разговаривая с людьми, она всегда опускала глаза или отводила их
в сторону, словно опасаясь, что в них перельется чужое ядовитое зло.
Но коровы Голубые Рога давно уже не было, Тура-Мо сама отвела ее к
Барад-беку в расплату за долги, чтобы получить от него две полные тюбетейки
опиума. Барад-бек продал корову какому-то чужеземцу, приходившему из Нижних
Долин. Этот человек разговаривал на языке, весьма похожем на сиатангский, -
все понимали его. Что это был за человек, Ниссо так и не узнала, но Голубые
Рога уже не вернулась, и человек этот больше не приходил в Дуоб.
Когда уводили корову, Ниссо горько плакала, - это было в первый раз,
когда Ниссо плакала, - долго бежала за коровой, цепляясь за нее, и умоляла
того человека не угонять Голубые Рога. Но человек только улыбнулся, потрепал
Ниссо по плечу и протянул ей какую-то еду, завернутую в бумажку. Ниссо
швырнула эту еду ему в лицо, укусила его руку; он очень рассердился и ударил
Ниссо кулаком в грудь. Она упала, вскочила, снова попыталась догнать его, но
остановилась, потому что он пригрозил ей камнем...
Это произошло уже за отвесным мысом, там, где тропа полезла высоко
вверх. С тех пор Ниссо не раз ходила туда, на место последней разлуки с
Голубыми Рогами, садилась на камень и подолгу печально думала, словно
прислушиваясь к мягкой поступи удаляющейся коровы, словно еще видя ее понуро
опущенный черный хвост с белой отметиной посередине.
Там, на узкой тропе за отвесным мысом, Ниссо училась вспоминать о
былом, и мечтать, и грустить. В селении ей было не до того. Дом требовал
вечных хлопот и забот, и ей никогда не приходило в голову, что дома можно
просто сидеть, ничего не делая, или резвиться с соседками, или развлекаться
теми игрушками, какие делал и дарил всем детям селения Палавон-Назар. Это
были глиняные козлы, и шерстяные куклы, и раскрашенные камешки, и палки с
красными и черными черточками... Все эти безделушки совсем не интересовали
Ниссо, - она даже не понимала, как это можно целыми днями бессмысленно
вертеть их в руках и ссориться из-за них?
Плоская крыша дома Палавон-Назара была накалена солнцем. Поджав под
себя ноги, Ниссо сидела на ней, и коричневое тело ее просвечивало сквозь
лохмотья изветшалой одежды. Вот уже долго, совсем как взрослая, она ведет с
Палавон-Назаром большой разговор.
- А еще есть какие люди, Назар?
- А еще? Дай-ка мне вот ту иглу, что без нитки! - сквозь зубы, закусив
сыромятный ремешок, отвечает Палавон-Назар и тянет мокрый ремешок, свивая
его между пальцами так, чтобы получилась тонкая кожаная нитка. - Еще?
Русские еще есть.
- Кто они?
- Как и мы, люди, только гораздо грамотней нас, и сильней, а потому и
богаче. Они знают очень многое, о чем мы совсем не знаем. Как нужно было
трудиться, чтобы добыть себе такое знание!.. И они умеют делать очень много
вещей!
- А твое ружье сделали они?
- Нет, мое сделали бухарцы, я тебе говорил о них. Йо! Не такие ружья
делают русские! Если бы у меня было русское ружье, я бы каждый день убивал
по десять козлов!
- А где живут эти русские?
- Живут? - Палавон-Назар, растянув на плоском камне мокрую сыромятину,
принялся, кряхтя, тереть ее круглым камешком. - Их очень много, разве
скажешь, где они живут? Вон там, везде! - Палавон-Назар, подняв обе руки,
махнул ладонями в сторону Ледяных Высот.
- Во льду живут? - живо спросила Ниссо.
Палавон-Назар усмехнулся:
- Глупая, не во льду, а в той стороне, за горами.
- А за горами что? Еще горы?
- Еще горы, и еще горы, и еще горы. А потом горы кончаются и пойдет
ровное место.
- Большое ровное место? Как Верхнее Пастбище?
- Если одно Верхнее Пастбище ты приложишь к другому такому же и еще к
третьему и будешь целое лето прикладывать пастбище к пастбищу, из них всех
не получится и половины того ровного места, которое есть за горами.
Ниссо долго молчала, старательно складывая в уме Верхние Пастбища, и,
наконец, удивленно спросила:
- Сколько же там пасется овец?
- Столько овец, сколько звезд на небе! - полусерьезно ответил
Палавон-Назар.
- Ну, тогда русские, наверное, много едят, - глубокомысленно заключила
Ниссо.
Помолчала, внимательно глядя на работу Палавон-Назара, принявшегося
тачать мягкие сапоги, которые он предназначал ей в подарок, и спросила
опять:
- А еще какие есть люди?
- Еще? Яхбарцы.
- Это те, у кого есть звери, что называются лошади?
- Лошади, милая, есть у всех людей. Только у нас, дуобских бедняков,
нет. Что стали бы среди этих камней делать лошади? Как им пройти сюда по
нашей тропе?.. Яхбарцы, яхбарцы... Вот тот, который увел твою Голубые Рога,
был яхбарец.
Ниссо нахмурилась. Досадливо расправила складки рубища на своем грязном
колене и с сердцем сказала:
- Плохие люди!
- Всякие есть, мой цветок.
- Нет, яхбарцы - плохие! - гневно воскликнула Ниссо. - Не хочу о них
слушать. Скажи, кто там живет?
Палавон-Назар мельком взглянул на противоположный склон, на который
указывала Ниссо.
- Там, за горой? Сиатангцы там живут, такие же как я и ты... Наш
народ!.. Крепость у них, на реке...
- А что они делают в крепости?
- Ничего... Раньше хан жил там, теперь нет хана, пустая, наверно,
крепость.
- Почему теперь нет хана?
- Потому что теперь советская власть.
- А у нас тоже советская власть?
- Раз мы сиатангцы, значит, и у нас тоже... Только далеко мы от всех.
Не видим ее еще.
- А что значит - советская?
- Значит, наша.
- Твоя и моя?
- Да, моя, и твоя, и всех людей наших.
- А как же ты говоришь, что мы не видим ее еще?
- А когда дерево посадишь, разве сразу плоды появляются?.. Дай ногу,
примерить надо. Ниссо важно протянула ногу.
- Встань.
Ниссо встала. Палавон-Назар поставил ее ступню на кусок кожи и легонько
обвел острием ножа. Ниссо опять села и, взяв из деревянной чашки маленькое
кислое яблоко, вонзила в него крепкие, как у мышонка, зубы. Разговор
продолжался. Слушая Палавон-Назара, Ниссо внимательней, чем всегда,
разглядывала гряды гор, обступивших видимый мир. В ясной чистоте ее
сознания, как туманные видения, возникали фантастические образы мира
невиданного. Десятки ее наивных вопросов требовали немедленного объяснения,
и Палавон-Назар терпеливо отвечал.
- А куда уходит тетка? - неожиданно спросила Ниссо.
- Туда, вниз, в селение Азиз-хона, - нахмурясь, ответил Палавон-Назар.
- Хан?
- Хан. За Большой Рекой еще есть ханы.
- Богатый?
- Раньше богатым был, весело жил, праздники большие устраивал... Теперь
время другое...
- Теперь тоже праздники он устраивает?
- Редко теперь. А откуда ты знаешь?
- Слышала, - как взрослая, неопределенно ответила Ниссо. Помолчала,
спросила: - А что тетка делает там?
Палавон-Назар тяжело вздохнул и ничего не ответил. Но Ниссо пытливо
глядела в его склоненное над работой лицо. Он неожиданно рассмеялся, напялил
сшитое голенище на руку и поднял его перед лицом Ниссо:
- Смотри, у козла бывают ноги толще твоих.
- Нет, - строго ответила Ниссо. - Ты мне о тетке скажи.
- Не скажу! - рассердился старик. - Вырастешь - сама узнаешь.
- Знаю и так, - вдруг с ехидцей и злобой горячо заговорила Ниссо. -
Недаром мужчины еду и опиум ей дают...
- А ты молчи... Не твое это дело! - сурово и тихо промолвил старик.
- Конечно, не мое, не мать она мне... чужая... - Ниссо печально поникла
головой и, замолчав, перестала грызть яблоко.
Теперь оба сидели молча. Посматривая на них снизу, Меджид подкрадывался
с луком к собаке Палавон-Назара. Разомлев от жары, собака дремала в тени,
под каменною оградой. Заметив Меджида, Ниссо стремительно сорвалась с места,
соскользнула по приставной лесенке во двор и с криком: "Уйди вон, а не то я
разорву тебе уши, как холстинку!" - кинулась бегом к нему.
Меджид спокойно повернул лук навстречу Ниссо, и камень со свистом
пролетел мимо ее головы. Ничуть не смутившись, Ниссо бросилась догонять
Меджида, но он уже исчез. Тут Ниссо подумала, что нужно перевернуть тутовые
ягоды, разложенные для подсушки на крыше дома, и полезла туда. Целый ковер
белых и черных тутовых ягод застилал плоскую крышу и под горячими лучами
солнца отдавал недвижному воздуху свой пряный густой аромат.
Перебрав ягоды, Ниссо надумала выкупаться и спустилась к реке. Она не
боялась холодной воды и летом всегда смело входила в ее быстрые струи. Никто
не учил Ниссо плавать, но это искусство, присущее жителям горной страны,
пришло к девочке само собой, когда однажды течение, оторвав ноги Ниссо от
каменистого дня, понесло ее вниз. В тот раз она сумела без посторонней
помощи выбраться на берег и с тех пор уже не боялась удаляться от берега.
Под тропой, уходящей вниз, три огромные, когда-то низвергнутые в воду
скалы образовали глубокую заводь, в которой прозрачная вода текла
сравнительно медленно. Здесь, в природном бассейне, можно было барахтаться и
плавать без риска быть унесенной в стремнину реки, и этот бассейн стал
излюбленным местом купанья Ниссо.
Она сбросила одежду и, распустив волосы, худощавая, ловкая, прыгнула в
воду. Вынырнув у самой скалы, выбралась на камень и прилегла на нем, как
ящерица, греясь на солнце. Опустив лицо к самой воде, вглядываясь в
зеленоватую глубину, она предалась беспечному созерцанию переменчивых теней,
играющих между камнями дна; опускала руки в воду и весело наблюдала, как
тугое, безостановочно летящее стекло воды дробилось под ее пальцами и с
шуршанием делилось на две тонкие белые струи.
Долго пролежала бы так Ниссо, если б чутким слухом не уловила сквозь
монотонный гул реки какие-то посторонние звуки. Ниссо быстро подняла голову:
вверху, по тропе, по которой обычно за целый день не проходил никто,
двигалась вереница людей. Первый из них ехал на рослом, здоровом осле.
Приближение к Дуобу незнакомых людей было происшествием столь необычным
и неожиданным, что Ниссо оробела. Она мгновенно соскользнула в воду и,
стараясь плыть около самых камней, чтобы сверху ее не заметили, пробралась
туда, где оставила платье, и притаилась за скалой, до плеч погрузившись в
воду.
Тропа над нею опускалась совсем низко к реке, но приближающиеся люди не
замечали Ниссо. Чуть высунув голову из-за камня, она наблюдала за ними.
Первым ехал плотный бородатый старик в просторном белом халате, с рукавами
такими длинными, что складки их от плеч до пальцев, скрещенных на животе,
теснились, как гребни волн на речном пороге. Впереди шел молодой
бритоголовый мужчина в черном халате, без тюбетейки. Ногой он отбрасывал с
тропы камни, на которые мог нечаянно наступить осел.
Старик в белом халате сидел строго и прямо, а белая его борода была
самой большой бородой из всех, какие Ниссо приходилось видеть. "Белая чалма,
белый осел, весь белый! - подумала Ниссо. - Наверное, сам хан к нам едет".
Дальше тянулись гуськом пешеходы, в халатах, - первый из них с
блестящим ружьем без ножек, совсем не таким, какое было у Палавон-Назара,
другие - с мешками на спинах, босоногие и во всем похожие на знакомых Ниссо
жителей Дуоба. Шествие замыкалось вьючным, тяжело нагруженным ослом.
Дрожа от студеной воды, в которой нельзя было оставаться долго, Ниссо
пытливо рассматривала пришельцев, медленно продвигавшихся над самой ее
головой.
Увидев селение, белобородый старик что-то сказал молодому проводнику, и
тот, почтительно выслушав, бегом устремился по тропе, очевидно для того,
чтобы предупредить жителей Дуоба о приближении важного гостя.
Когда путники скрылись из виду, Ниссо подтянулась на руках, чтобы
выбраться из воды, но вдруг увидела бредущих по тропе на значительном
расстоянии Бондай-Шо и Тура-Мо. Следуя за пришельцами, они, очевидно, не
смели присоединиться к каравану. Ниссо опять погрузилась в воду: ничего
хорошего не предвещала встреча с теткой, если б та увидела Ниссо здесь, явно
бездельничающей. Целый месяц их не было в Дуобе, и Ниссо чувствовала себя
уверенно и спокойно. Сейчас, утомленные, они шли молча. За плечами
Бондай-Шо, кроме пустых козьих шкур, не было ничего, а длинная, в два
человеческих роста, палка, которую он нес в руках, свидетельствовала о том,
что он проходил через перевалы и по крутым склонам осыпей. Раз у него нет за
плечами мешка с едой, значит, он очень злой, и тетка, конечно, еще злее его.
Лучше бы они совсем не приходили!
Они прошли мимо, и Ниссо, наконец, решилась выбраться из воды. Зубы ее
стучали, кожа покраснела от холода. Ниссо прижалась к поверхности
накаленного солнцем камня. Согрелась, взялась за одежду, раздумывая: что это
за люди? Откуда они? Что заставило такого важного старика явиться в
маленький бедный Дуоб? Куда они идут? Только сюда или мимо, к Ледяным
Высотам? В той стороне, к Ледяным Высотам, нет селений, - ничего нет, кроме
камня и льда, - так говорил Палавон-Назар, а он знает! Наверно, пришли
сюда... Зачем? Что будут тут делать? Лучше пока не возвращаться в селение.
Перебегая от скалы к скале, приникая к ним, карабкаясь над обрывами и
зорко осматриваясь, настороженная, дикая, Ниссо огибает селение по склону,
взбирается выше него по кустам шиповника и облепихи, кое-где пробившимся
сквозь зыбкие камни высокой и крутой осыпи. Наконец весь Дуоб, - все
двадцать четыре дома, приземистые, плоские, похожие на изрытые могилы, -
рассыпан перед Ниссо далеко внизу. Она припадает за круглым кустом и
смотрит.
В селении переполох. Все женщины Дуоба - те, что не ушли весной на
Верхнее Пастбище, - стоят на крышах, бьют в бубны, поют, а мужчины, окружив
пришельцев, толпятся во дворе Барад-бека, и сам он хлопочет, размахивает
руками, отдает приказания. Вокруг дома Барад-бека хороший тутовый сад,
единственный настоящий сад в селении, - возле других домов только редкие
тутовые деревья. Ниссо видит, как мужчины стелют в саду ковер, как несколько
дымков сразу начинают виться на дворе Барад-бека. Между домами селения
пробираются жители, кто с грузом корявых дров, кто с мешком тутовых ягод...
А направо, по ущелью, уже торопливо поднимаются две женщины; одну из них
Ниссо узнает по красному платью, - это племянница Барад-бека. Конечно, их
послали на Верхнее Пастбище за сыром и кислым молоком, - будет праздник
сегодня.
Вот, наконец, вечер, тьма. Давно уже не доносятся звуки бубнов. Все
тихо внизу, в селении. В саду Барад-бека сквозь листву просвечивают два
красных больших огня, - значит, пришельцы еще не спят. Дым стелется вверх по
склону, и чуткое обоняние Ниссо улавливает запах вареного мяса; очень
важный, видно, гость, если Барад-бек не пожалел заколоть барана! Ниссо
осторожно, прямо по осыпи спускается к селению, - даже горная коза не
спускалась бы так по зыбким камням. Обогнув осыпь, выходит на тропинку,
вьющуюся вдоль ручья к Верхнему Пастбищу. Никто еще не успел оттуда прийти.
Над тропинкой желоб оросительного канала; здесь вода разделяется на две
струи: одна к полям Барад-бека, другая ко всем другим полям Дуоба. Ниссо
жадно пьет воду, спускается ниже, подходит к ограде первого дома, охраняющей
его от камней, катящихся с осыпи. Эти камни валом приникли к ограде.
Странно, но в этот поздний час в доме слышны возбужденные голоса. В нем
живет семья Давлята, у которого зоб еще больше, чем у Бондай-Шо; у него было
восемь детей, шесть умерли за два последние года, остались две девочки -
Шукур-Мо и Иззет-Мо. Они еще совсем маленькие, но Иззет-Мо проводит это лето
на Верхнем Пастбище, пасет там трех коз Давлята. Ниссо прислушивается: в
доме кто-то громко, отрывисто плачет. Конечно, это жена Давлята, это ее
голос, причитающий и такой скрипучий, будто в горле у нее водят сухим
железом по камню.
- Лучше бы ты пошел к нему на целый год собирать колючку!
- Не пойду! - гневно отвечает Давлят. - Колючка не нужна богу.
- Чтоб твой бог... Чтоб твой бог...
- Зашей себе в шов то, что ты хочешь сказать! - в ярости перебивает ее
Давлят и чем-то громко стучит.
Ниссо проскальзывает мимо дома, удивляясь: с чего это жена Давлята
ругает бога?
В следующем доме женский плач еще громче, но никто не мешает ему. Ниссо
удивляется и торопливо пробирается дальше. В домах, мимо которых она
крадется, люди разговаривают и спорят, а ведь в этот час селение всегда спит
мертвым сном!
Вот и еще женские стоны, - это сыплет проклятьями старуха Зебардор.
Ниссо встревожена: что произошло? Днем стояли на крышах, пели и ударяли в
бубны, а сейчас ведут себя так, будто каждую искусала змея!
Торопливо перебегая от ограды к ограде, Ниссо, наконец, добирается до
своего дома. Убедившись, что тетки нет, входит в него. Прислушивается:
Меджид и Зайбо спят. Ниссо успокаивается и ложится спать. Но сон долго не
сходит к ней, - она слишком взволнована необычными обстоятельствами
прошедшего дня, ей хочется скорее узнать все о приехавших, она боится, что
тетка утром изобьет ее...
Но сон все-таки побеждает тревогу Ниссо.
Утром тетка входит в дом - спокойная, решительная. Ниссо сидит,
безразлично водя пальцем по пустому чугунному котлу, и котел отвечает глухим
шуршанием. Ниссо вся сжимается, готовая выдержать привычный гнев тетки: вот
сейчас подойдет, вот закричит, вот ударит, и надо только не отвечать, молча
прикрывая рукой лицо... Меджид и Зайбо забились в угол и глядят оттуда с
огоньком злорадства в глазах.
Но тетка, сделав несколько шагов, остановилась, молчит. Ниссо удивлена,
ждет, наконец решается коротко, украдкой взглянуть на нее и сразу же
опускает глаза.
Косы Тура-Мо расчесаны. Ее белая рубашка выстирана и еще не просохла на
ней. Ее штаны у щиколоток подвязаны, - что с ней такое сегодня? Почему она
такая спокойная, чистая?
И Ниссо еще раз мельком кидает взгляд на лицо Тура-Мо: вон какие
коричневые круги вокруг глаз, - все от опиума! Вот сжала губы, глядит своими
большими глазами, - спокойно глядит. Почему стоит и глядит?
И Ниссо еще старательней водит по краю котла ногтем, рождая
однообразный приглушенный скрип. Тетка спокойно говорит ей:
- Встань.
Ниссо встает. "Начинается!" Но Тура-Мо вынимает из рукава деревянный
гребень, начинает расчесывать волосы Ниссо. Обе молчат, и Ниссо недоумевает.
Тщательно расчесав волосы Ниссо, Тура-Мо заплетает их в две косы, снимает со
своей руки медное несомкнутое кольцо браслета, надевает его на тонкую кисть
Ниссо. Снимает с себя ожерелье из черных стеклянных бусинок, накидывает его
на шею Ниссо.
Все это до такой степени необычно, что Ниссо наполняется тревожным
предчувствием чего-то очень большого и нехорошего. Молчит, не сопротивляется
и, полузакрыв опущенные глаза, ждет. Тетка, отойдя на шаг, осматривает ее и,
видимо, удовлетворенная, коротко бросает:
- Теперь пойдем!
И выводит Ниссо за руку из дома. Ниссо невольно связывает все
происходящее с приездом важного гостя и идет рядом с теткой, как пойманный,
но готовый кусаться волчонок.
На очищенной для падающих тутовых ягод площадке, устланной сегодня
циновками, окруженный семьей Барад-бека, сидит, привалившись к одеялам,
важный величественный старик. Перед ним на лоскутке материи угощение:
тутовые ягоды, орехи, миндаль. Барад-бек разливает из узкогорлого кувшина
чай и протягивает всем пиалы.
Тура-Мо, не смея подойти ближе, останавливается, крепко держа Ниссо за
руку.
Сборщик податей живому богу исмаилитской религии, белобородый халиф
Роман П. Н. Лукницкого "Ниссо", написан перед Отечественной войной.
Переведен на десятки языков Европы и Азии.
По роману "Ниссо" созданы две оперы - композитором С. Баласаняном
(либретто Ценина), ставившаяся в Таджикистане и телевизионным центром в
Москве, и болгарским композитором Дмитром Ганевым. В 1966 году на экраны
вышел фильм "Ниссо" (Таджикфильм. Режиссер М. Арипов, сценарий П. Лукницкого
и Л. Рутицкого), сделанный по мотивам романа.По роману "Ниссо"
Д.Худоназаровым в 1979 году снят телевизионный многосерийный фильм по заказу
Гостелерадио СССР (сценарий В.Лукницкой).
Перу П. Н. Лукницкого принадлежит ряд романов, повестей, рассказов. В
числе его произведений много очерков, посвященных путешествиям по Памиру и
другим отдаленным горным районам Средней Азии, Казахстана, Заполярья. Немало
произведений П.Н. Лукницкого посвящено героической обороне Ленинграда в годы
Великой Отечественной войны. В 1961 году вышла в свет книга "На берегах
Невы", в 1964 - книга "Сквозь всю блокаду", в 1961, 1964 и 1966 годах -
трилогия, фронтовой дневник "Ленинград действует".
П. Н. Лукницкий - участник Великой Отечественной войны - награжден
орденами и медалями
.
Когда, преодолев Большую Ледниковую Область, ты захотел увидеть истоки
реки Сиатанг, ты прежде всего осилил труднейший перевал, взнесенный природой
на пять с половиною километров над уровнем моря. Встав над пропастью на
снежной обрывистой кромке этого перевала и обратившись лицом к югу, ты
увидел внизу острые хребты гигантских горных массивов, уходящие ряд за
рядом. Серые, иззубренные, скалистые, с почти отвесными склонами, они,
простираясь вдаль, в синюю глубину пространств, походили на спины
исполинских, недвижимых, навеки уснувших драконов. Разделенные провалами
таких же бесконечно длинных и все углубляющихся ущелий, они создали
впечатление мира дикого, мертвого, лишенного какой бы то ни было
органической жизни. Только тонкие облачка, курящиеся над ледяными зубцами
хребтов, свидетельствовали о том, что в этом первозданном мире существуют
переменчивость и движение. Да еще, заметив внизу застывшего в парящем полете
грифа, ты, путешественник, подумал, что эта огромная живая птица, кружащаяся
над хаосом древних морен, существует здесь вопреки законам природы.
Обратившись к карте, ты убедился в том, что ни сама Большая Ледниковая
Область, ни верховья видимых тобою рек на карте не обозначены. И вместо
каких бы то ни было точных географических начертаний на ней тянутся всего
лишь два дразнящих воображение слова: "Неисследованная область". Убедившись,
что спуститься здесь невозможно, ты перестал гадать, какое именно из диких
ущелий этих Высоких Гор называется ущельем реки Сиатанг.
Повернув обратно, ты ушел на север и целую неделю блуждал среди
безжизненных фирнов и ледников, ища пути назад, задыхаясь от недостатка
воздуха и только крепостью духа поддерживая в себе уверенность в том, что у
тебя хватит уменья и сил выбраться из этих страшных необитаемых мест. А
потом еще две недели ты спускался верхом в те жаркие и благодатные долины,
где советские люди возделывают хлопок, живя в мирном неустанном труде.
И когда тебя спросили о стране Сиатанг, ты сказал, что ничего не знаешь
о ней, хотя она лежала перед тобой как на ладони. И добавил, что, судя по
карте, проникнуть туда можно только кружным путем, пройдя сотни километров
по нагорьям Восточных Долин, достигнув Большой Пограничной Реки и
спустившись по узкой тропе до устья реки Сиатанг, - войдя, таким образом,
через полтора месяца странствий в ее ущелье не сверху, а снизу.
- Но и с той стороны, кажется, еще никто из исследователей в это ущелье
не заходил! - прибавил ты, подумав...
Сведения о реке Сиатанг, имевшиеся в описываемые - уже давние для нас
теперь - годы, были, конечно, беднее того, что известно ныне. Но перенесемся
в те годы и увидим: независимо от каких бы то ни было сообщений географов,
река Сиатанг, рожденная среди ледников, течет внизу по дну пропиленного ею
за десятки тысячелетий ущелья и дает жизнь маленькой народности горцев. Они
говорят на своем сиатангском наречии, имеют собственную, полную событий
историю и вместе со всей необъятной Советской страной после Октябрьской
революции начали жить по-новому.
За хребтами, образующими ущелье реки Сиатанг, на сотни километров
простираются другие хребты, разделенные другими ущельями, в каждом из
которых текут такие же, как Сиатанг, реки.
На скалистом береговом склоне одной из них ютится далекое от всего
мира, маленькое, еще недавно никому не ведомое селение Дуоб. Жители его
говорят на сиатангском наречии.
И кто бы мог думать, что норку ее
Зимой не разроет зверье?..
...Есть солнце, и камни, и ветер, и снег,
В мученьях за веком рождается век,
Но ты их сильней, Человек!..
Раздумья в Высоких Горах
Конечно, соглашаться на предложение Мир Али не следовало. Но, приехав в
маленькое, сжатое скалами селение Дуоб, он так вежливо разговаривал с
Розиа-Мо, так горячо убеждал ее, что она в конце концов согласилась. Что
было делать? С тех пор как муж ее умер, она выбивалась из сил, чтобы
прокормить себя и свою маленькую Ниссо, и все-таки голодала. Мир Али сказал
ей: "Целое лето ты будешь работать в Яхбаре, у самого Азиз-хона, а осенью он
даст тебе овцу и столько муки, что, вернувшись в Дуоб, ты всю зиму будешь
жить так спокойно, как будто у тебя есть здоровый, богатый муж". Розиа-Мо
посоветовалась со своей сестрой Тура-Мо. Сестра согласилась за половину
заработка, который Розиа-Мо принесет осенью, взять к себе на лето маленькую
Ниссо.
Розиа-Мо завалила вход в свое жилище большим камнем и, до глаз укрыв
лицо белым покрывалом, пошла впереди осла, на котором выехал из селения Мир
Али. Никто не провожал Розиа-Мо: жители Дуоба мало интересовались ее
судьбой, а Тура-Мо еще до рассвета ушла на Верхнее Пастбище. Розиа-Мо шла по
узкой каменистой тропинке, высеченной в скале. Мир Али ехал за нею молча,
поглядывая на реку, швыряющую пену к подножью откоса, над которым вилась
тропа. Розиа-Мо перед входом в теснину ущелья захотела в последний раз
взглянуть на родное селение, но, встретясь с суровым взглядом Мир Али,
отвернулась и опустила глаза.
Она пыталась представить себе свою будущую жизнь там, в Яхбаре,
расположенном за Большой Пограничной Рекой. Ничего не знала Розиа-Мо об этой
стране Яхбар, но о правителе ее, Азиз-хоне, многое слышала от соседей,
бывалых людей: они часто рассуждали между собой о богатстве его, и о
могуществе, и о власти. Что ждет ее там? Смутное беспокойство омрачало
Розиа-Мо...
Когда теснина расширилась, Розиа-Мо увидела на крошечной лужайке двух
лошадей и мальчика, прикорнувшего около камня. Мир Али отдал мальчику осла,
велел Розиа-Мо сесть на лошадь, сам сел на другую, и они двинулись дальше.
А к вечеру на каменистой террасе, там, где тропа спустилась к реке,
путники повстречались с группой всадников, и среди них Розиа-Мо узнала
ненавистного ей Алим-Шо. Она сразу поняла, что Мир Али ее обманул и что если
Алим-Шо подъедет к ней, то никогда уже не увидит она ни родного селения, ни
своей дочки Ниссо.
Этот Алим-Шо сватался за Розиа-Мо несколько лет назад и уехал,
взбешенный ее отказом. Этот Алим-Шо через год напал на ее мужа по дороге к
Верхнему Пастбищу и избил его камнями так, что муж уже не мог больше
оправиться. Этот Алим-Шо после смерти мужа приезжал в Дуоб свататься еще раз
и уехал еще более взбешенным, когда Розиа-Мо при всех плюнула ему в лицо.
Теперь он приближался к ней на своем яхбарском коне, улыбаясь так, будто
ничего не случилось.
В страшной тревоге Розиа-Мо быстро осмотрелась вокруг. Старый Мир Али
ехал сзади и закрывал путь к отступлению. Направо высились отвесные склоны.
Налево шумела река. По ту сторону реки вилась такая же тропинка, и там не
было никого. Если бы Розиа-Мо рассудила здраво, она поняла бы, что все
равно, куда ни кинься, от всадников Алим-Шо ей не уйти. Даже если б она
домчалась до селения, кто вступился бы за нее? Но думать было некогда, и
только слепое отчаяние заставило ее решительно погнать своего коня в реку.
Умный горячий конь рванулся в поток, не побоявшись бурлящей воды. Шум реки
заглушил гневные крики Алим-Шо и его приятелей. Они кинулись в воду, но
беглянка раньше их успела выбраться на противоположный берег.
И по тропе, по какой разумный человек ездит только шагом, Розиа-Мо
помчалась карьером. Она не слышала голосов мужчин, кричавших ей что-то
вдогонку, и ни разу не обернулась. В паническом страхе она погоняла коня. И
то, что должно было случиться, случилось. На крутом повороте узкой тропы
нависшая скала вышибла женщину из седла. Ее раздробленная нога осталась в
стремени. Розиа-Мо волочилась головой по камням, пока испуганный конь не
остановился; и когда Алим-Шо медленно выехал из-за поворота тропы, он
увидел, что Розиа-Мо мертва. Он наклонился над ней, сжав губы и отирая
рукавом халата свой потный, блестящий лоб. Дотронулся до ее окровавленного,
разбитого тела и пробормотал про себя молитву. А когда подъехали его
приятели, они, спешившись, молча постояли над Розиа-Мо, не глядя один на
другого.
А затем, совершив все, что полагается в таких случаях совершать
правоверным шиитам, сбросили в реку труп Розиа-Мо и, забрав с собою коня,
уехали во владение Азиз-хона. А Мир Али, подкупленный ими слуга Азиз-хона,
вернулся к своему хозяину, решив, что язык его никогда не разболтает
историю, которую в этот вечер видели его глаза.
Через несколько дней старый пастух, возвращаясь в селение, нашел у
прибрежных скал изуродованное тело Розиа-Мо - еще недавно сильной и красивой
женщины. Бедняки-соседи и Тура-Мо пришли сюда на привычные похороны, но
никто не узнал истинной причины смерти Розиа-Мо.
А потом старики собрались и решили, что маленькая Ниссо должна остаться
у Тура-Мо. И гневная Тура-Мо вынуждена была согласиться, потому что ни один
из ее доводов на стариков не подействовал. "Все бедны, - сказали они, - все
не хотят лишнего рта, все в зимние месяцы кормятся только вареными травами,
но Розиа-Мо была твоею сестрой, и ты должна взять девочку к себе".
И Ниссо осталась у своей тетки.
Будь Зенат-Шо дома, он, вероятно, быстро успокоил бы Тура-Мо, сказав
ей: "Если собаке подкинуть чужого щенка, она все-таки станет его кормить;
девчонка будет есть то, что мы едим сами! А потом станет нам помогать -
разве плохо, когда в доме есть лишние руки?"
У Зенат-Шо слишком мягкий характер, он всегда думает о других, а о себе
забывает. Ведь не всю жизнь девчонка может бегать по селению голой - ей
понадобится рубашка, да мало ли что ей понадобится, пока она будет расти?..
Зенат-Шо нет дома, и неизвестно, когда он вернется. Два года назад он ушел
на заработки за пределы Высоких Гор. Кто может знать: жив он или умер?
Тура-Мо вынимает сушеные тутовые ягоды из мешка и швыряет горсть их на
плоскую плиту сланца. Кладет ладонь на большой круглый камень, раскачивает
его, давит сухие ягоды, толчет их в муку, собирает муку в деревянную чашку,
бросает на плоскую плиту новую горсть сухих ягод...
Домотканая рубаха Тура-Мо грязна и изодрана, в прорехах поблескивает ее
загорелое тело. Она худа, но руки ее хорошо развиты и сильны, - круглый
камень поворачивается ритмически, похрустывая иссушенным прошлогодним тутом.
Непослушные черные привязные косы мешают ей, она беспрестанно откидывает их
резким движением голого локтя. Такие косы, сплетенные из козьей шерсти,
носят все женщины Высоких Гор, подвязывая их к своим волосам. У Тура-Мо они
черные, давно уже черные. Многое отдала бы Тура-Мо за право вернуть свои
красные косы, какие подвязывала, когда была девушкой. Но это время ушло, - у
Тура-Мо уже двое детей, надо думать только о них. Был еще третий ребенок, но
он умер от оспы, да, пожалуй, жалеть о нем и не стоит. Птицы, овцы, даже
змеи могут много есть, ни о чем не заботиться, делать то, что им хочется, а
ей, Тура-Мо, на что ее молодость, если даже самое маленькое желание надо
всегда гнать от себя?
Нет, так продолжаться не может. Разве в силах одинокая женщина
прокормить своих детей, да еще чужого ребенка? Если Зенат-Шо умер, зачем его
ждать? Не пора ли подумать о другом муже? Если жив - сам виноват, что не
возвращается до сих пор! Пусть Бондай-Шо, сосед Тура-Мо, - юродивый и
зобатый; без богатства где найдешь здорового и свободного мужчину? Он все
чаще приходит во двор и спрашивает: "Не забежал ли к тебе, Тура-Мо, мой
козленок?" Какой у него козленок, - нет у него ничего, кроме тощего, с
облезлой шерстью осла. Но Тура-Мо будто не знает, до сих пор она все
отвечает: "Не видела. Наверное, не забегал". А ведь она молода, ее тело
налито жизнью, как зрелый посев, и все чаще ей хочется ответить ему:
"Посмотри, Бондай-Шо, кажется, что-то мелькнуло, когда я ходила к каналу,
может быть, и правда, твой козленок пробрался в мой дом". У Бондай-Шо
мускулистая грудь и крепкие руки, он хорошо поет свои странные песни, он
ходит по другим селениям и всегда приносит домой баранье сало, сушеное мясо,
мешок абрикосовых косточек или тута. Зоб? Что значит зоб, кто здесь обращает
на это внимание? Хасоф тоже зобатый, а имеет красивую, молодую жену.
Хушвакт-зода, и Махмут, и Худай-Назар - все зобатые, а у всех жены, и жилье,
и тутовые деревья, и никто не смотрит на них иначе, чем на других мужчин.
Бондай-Шо, как и все, умеет сеять зерно, обрабатывать землю, пасти скот,
направлять воду в каналы. Может быть, в Бондай-Шо сидит злой дух? Ведь вот
когда Бондай-Шо катается по земле, и кричит, и беснуется, и плюется, -
наверное, в нем волнуется дэв, стараясь выскочить из него. Но это с
Бондай-Шо случается редко, а чаще всего он беспечен и весел, даже веселее
других. Он, наверное, скупится на подарки Барад-беку, чтобы получить от него
хороший амулет, который избавил бы его от таких беснований. А если он найдет
в ее доме своего козленка, она заставит его купить хороший амулет!
Наполнив ягодною мукой деревянную чашку, Тура-Мо несет ее дом. Босые
крепкие ноги ее белы от тутовой пыли; войдя в дом, Тура-Мо ставит загорелую
ногу на край деревянной чашки, осторожно сгребает с нее в чашку мучную пыль
- надо беречь каждую крупинку муки, особенно теперь, когда в доме появился
лишний рот. Высыпает муку на платок, возвращается с пустой чашкой к плоскому
камню, продолжает помол. Солнце накалило камень, но руки Тура-Мо не боятся
ни холода, ни жары, она прилежно работает и думает о Ниссо... Может быть,
Ниссо несчастливая? Может быть, от ее присутствия в доме будет сглаз родным
детям? Может быть, от Ниссо распространится на них несчастье?.. Девчонке
теперь восемь лет, по всем признакам, она как будто здорова... И надо
думать, никаких злых дэвов в ней нет. Пожалуй, Тура-Мо нечего опасаться.
Летом каждая ступенька, подпертая каменною стеной, станет маленьким, в
две-три квадратные сажени, полем: натаскают на носилках земли, рассыплют ее
темным и ровным слоем, посеют просо, ячмень, горох.
Но пока еще не ушла зима. Крошечные площадки еще завалены неубранными,
прикрытыми снегом камнями. Камни падали всю зиму с той гигантской осыпи, что
высится над селением, уходя к остроконечным вершинам горы. Правда, эти камни
уже не ворочаются под ногами, они крепко смерзлись, но под снегом не видно
их острых ребер, идти по ним босиком очень больно. С площадки на площадку,
как по лестнице великанов, цепляясь за выступы грубо сложенных стен,
спускается к реке Ниссо. Вся ее забота - не уронить большой глиняный кувшин;
она то ставит его себе на голову, то прижимает к груди, обнимая тоненькими
руками.
Черные волосы Ниссо слиплись - самой ей некогда их расчесывать, да и
нечем: деревянный гребешок есть только у тетки, а тетка не позволяет трогать
его. Тетка несправедлива: родным детям, Зайбо и Меджиду, она иной раз
расчесывает волосы гребнем, а Ниссо - никогда. Но Ниссо уже привыкла ничего
не просить у тетки, - в лучшем случае тетка только накричит на нее. Вот
придет лето, вода станет теплее, Ниссо сама вымоет себе волосы.
С гор дует острый, ледяной ветер. На Ниссо рубашка из брезентовой
торбы, слишком короткая, - но хорошо, что есть хоть такая. Эту торбу Тура-Мо
нашла в доме своей покойной сестры еще в прошлом году - вероятно, ее забыл
Мир Али, когда приезжал, чтобы увезти с собой Розиа-Мо. Неоткуда больше было
взяться торбе: ведь в Дуобе ни одной лошади нет, а если б и были, то кто в
этих местах стал бы тратить такой хороший кусок завезенного издалека
брезента на лошадиную торбу? В прошлом году Ниссо бегала по селению голой,
но ведь ей уже восемь лет, она уже скоро невеста, и соседи убедили Тура-Мо,
что девочке пора быть одетой. Тура-Мо долго упорствовала - ведь для торбы
можно найти лучшее применение, - но с мнением соседей все-таки следует
считаться! Кляня девчонку, на которую всегда надо тратиться, Тура-Мо,
наконец, прорезала торбу, пришила к ней две шерстяные тесемки, со злобой
сказала: "Носи!"
Новое платье Ниссо походило на черепаший панцирь. Под мышками и на шее
Ниссо появились багровые полосы: через несколько дней они превратились в
гноящиеся раны. Ниссо не плакала, потому что была странной девочкой: она не
плакала никогда. Воздух в селении был чист и целителен, вскоре от ран
остались только рубцы, похожие на мозоли, а жесткое брезентовое платье могло
не развалиться до конца жизни Ниссо.
Ниссо спускается к грохочущей реке. Подойдя к берегу, спрыгивает на
большой плоский камень, охваченный бурлящей пеной, наклоняется, крепко держа
кувшин. Холодная вода закипает у его горлышка, стремится вырвать кувшин из
рук Ниссо. С трудом подняв его сначала на плечо, затем на голову, Ниссо
устремляется в обратный путь.
Проклятый ветер! Он насквозь пронизывает тело. Когда же, наконец,
разомкнутся тучи над этим ущельем? Всю зиму они плывут и плывут, все в одном
направлении, от тех ледяных вершин, с которых бежит река. Ниссо ничего в
мире не знает, но не сомневается, что, когда пройдут вниз все тучи, появится
солнце, ветер станет теплее и ходить за водой будет гораздо легче.
А главное - если б не трещина в основании кувшина, из которой вечно
течет вода! Ниссо старательно зажимает трещину пальцами, но вода все-таки
струится по руке вниз, пробегая по лицу и по шее до голых плеч, замерзает на
ледяном ветру. Льдинки жгут, колют плечи Ниссо, а рук от кувшина отнять
нельзя. Стуча зубами, дрожа, девочка осторожно взбирается по камням,
стараясь не поскользнуться. Теперь она поднимается к дому по узкой тропинке:
этот путь гораздо дальше, но ведь с кувшином, полным воды, никак не
подняться по стенкам, разделяющим ступени полей.
Если б Розиа-Мо была жива, она, наверное, ходила бы за водой сама, -
все взрослые женщины зимой ходят за водой сами, но Тура-Мо занята другими
делами, ей совсем неинтересно думать о чужой девчонке! Вот и сегодня, - куда
ушла Тура-Мо? Сказала только детям: "Сидите тут тихо!" - и ушла, и весь день
ее нет. Впрочем, Ниссо очень хорошо знает, где проводит дни тетка. Конечно,
она у этого Бондай-Шо, который только и знает, что валяется на своей
козлиной шкуре да бренчит на двуструнке. Каждый день Тура-Мо уходит к нему,
и они запирают дверь, и больше никто в селении целый день их не видит!
Ниссо окоченела и торопится к дому, но с кувшином в гору бежать нельзя,
она только старается быстрее перебирать ногами и тяжело дышит сквозь
стиснутые зубы.
Каменные лачуги селения черны. Каждая из них окружена пустым,
омертвелым садом, запрятана в каменные ограды. Улиц в Дуобе нет, есть только
узкие, извилистые проходы между оградами, - такие узкие, что в них с трудом
могут разойтись два осла. Ледяной горный ветер вымел все селение, сугробы
снега удерживаются только в самых глухих углах между большими камнями.
Жителей не видно - кому охота выбираться на такой ветер, да и что делать в
селении зимою? Тем, у кого еще остались тутовая мука и сушеные яблоки, нет
нужды выходить из дому, - как-нибудь до весны протянут.
Ледяная вода все течет, замерзает на плечах и груди Ниссо. Но вот она
добралась до дому, и кувшин еще до половины полон водой. Ниссо входит в дом,
кидает взгляд на Зайбо и Меджида, катающих в углу бараньи позвонки, устало
выливает воду из кувшина в чугунный котел, вмазанный в очаг. Прыгает, трет
тело руками, обкусывает ледяную корку, налипшую на руки.
- Ниссо, есть хочу... Дай мне есть... - слезливо ноет шестилетний
Меджид.
- Молчи! Я сама хочу. Надо еще идти за травой, - говорит Ниссо, дав
Меджиду по уху. - Сидите тихо, пойду за огнем.
Спички в Дуобе есть только у почтенного Барад-бека. Но и хвороста,
чтобы поддерживать огонь постоянно, тоже ни у кого не хватило бы. Жители
Дуоба держат негасимый огонь по очереди. Ниссо, взяв глиняную чашку,
выбегает из дому и через несколько минут возвращается, прижимая чашку к
животу.
Осторожно хватая принесенные угли пальцами, она вкладывает их в очаг на
приготовленные куски сухого навоза. Прикрывает огонек ладонями, старательно
дует, пока всю ее голову не окутывает синеватый едкий дымок.
Меджид и Зайбо опять беззаботно играют в бараньи косточки.
- Смотри, чтоб огонь не потух! - сердито бросает Ниссо Меджиду и опять
выходит за дверь.
Свирепый ветер швыряет горсть снега в ее разгоряченное лицо. Ниссо
бежит по селению, прыгая с камня на камень. Она озабоченно размышляет: где
еще в ущелье над Дуобом могла сохраниться трава "щорск"?
Селение уже далеко внизу, горный ручей звенит по ущелью над глыбами
снега, огромные скалы беспорядочно нагромождены по берегам ручья. Кое-где
между ними торчат из-под снега сухие ветки кустарника.
Там, где Ниссо вчера нарвала травы, - вот под этой большой скалою, -
сегодня нет ничего: кто-то уже побывал здесь, весь снег разрыт. Ага! Тут
прогуливался осел Барад-бека - вот следы его; конечно, именно этот осел!
Ниссо безошибочно узнает следы любого животного - много ли их в Дуобе! Ах,
бродяга, объел всю траву! И ведь выбирает, проклятый, именно ту, из которой
можно варить похлебку!.. Может быть, вон за тем камнем сохранилась? Там нет
никаких следов.
Ниссо обходит скалу, разгребает босыми ногами снег, но под снегом
только голые камни. Переходит в другое место, натыкается на куст облепихи, -
колючки впиваются в ноги. Ниссо садится прямо на снег, сердито вытаскивает
из ноги колючки, размазывает по ноге кровь, а глазами уже рыщет вокруг:
может быть, там? Или там?.. Прямо беда: с каждым днем все меньше травы в
ущелье, скоро, наверное, придется ходить за перевал... Но пока дойдешь туда,
пожалуй, совсем замерзнешь!
Наконец под одним из камней Ниссо замечает знакомую травинку. Быстро -
на этот раз руками - разгребает снег и, найдя пожелтевшие пучки, с
ожесточением рвет их. Надо бы нарвать сразу на несколько дней, но руки уже
окоченели, - скорее, скорее домой! Ниссо еще не научилась думать о
завтрашнем дне, она живет только сегодняшним и, не забросав несорванную
траву снегом, убегает вниз, прижимая к груди охапку обмерзшей травы.
Дома вода уже закипает. Ниссо бросает в котел всю добычу и, сняв себя
холодную рубашку, сидя голая у огня, протягивает к нему то руки, то ноги.
Понемногу тепло наполняет ее, и она перестает дрожать.
Трава варится долго. Ниссо беспечно глядит в котел, но голод уже сводит
ей рот. Она зевает от голода и помешивает варево большой деревянной ложкой.
Меджид и Зайбо забыли игры. Не утерпев, Меджид пытается залезть в котел
пальцем, но Ниссо звонко шлепает его, и он, отдернув руку, как ни в чем не
бывало продолжает глядеть на закруженную кипящей водой траву.
Наконец похлебка готова. Надо бы гасить огонь - ведь каждый кусочек
сухого навоза на счету, но Ниссо медлит: так хорошо течет от огня теплый
воздух! Он отгоняет мороз, проникающий сквозь щели между камнями, из которых
сложены стены жилища.
Ниссо сует Зайбо деревянную ложку.
- Ешь!
Зайбо двумя ручонками ворочает ложку в котле, стараясь выудить как
можно больше вареной травы.
- Скорее! - говорит Ниссо, и Зайбо ест, обжигаясь.
Ниссо передает ложку Меджиду, ждет своей очереди. Ветер дует сквозь
стены, холодит голую спину Ниссо, но грудь ее раскраснелась от жары.
Пятилетняя Зайбо в куске козьей шкуры, обвязанной вокруг ее тельца шерстяной
веревкой, похожа на маленькую обезьянку. Меджид с ногами увяз в лохмотьях,
когда-то бывших холстом. Ложка ходит из рук в руки, все едят жадно и молча,
детские животы надуваются: трава съедена, но горячей потемневшей воды еще
много.
Дом Тура-Мо ничем не отличается от других домов маленького селения.
Вдоль грубо сложенных каменных стен тянутся широкие нары из глины. Нары
разбиты на отдельные части поперечными перегородками. В углах жилища они
образуют клетушки. Раньше, когда Тура-Мо жила лучше, в клетушках зимой
ягнились овцы, хранились мука, сено, солома; выше - на поперечных полках -
стояли деревянные чашки с кислым молоком, козьим сыром, просяными лепешками.
Теперь эти клетушки пусты - у Тура-Мо нет даже одеяла, и ночью укрыться
нечем.
У самого входа, налево от него, - загородка: корова Тура-Мо еще жива,
но страшно отощала, ее давно кормят только сухими листьями тутовника,
выпрошенными в долг у Барад-бека. Если он откажется дать еще, то корову
придется зарезать на мясо, а Тура-Мо скорее позволит отрезать себе руку, чем
лишится коровы. Ниссо дружит с коровой. Ниссо чаще всего спит вместе с ней,
свернувшись клубочком, прижавшись к ее теплому боку. Меджид и Зайбо по ночам
прижимаются к Тура-Мо; прикрытая двумя джутовыми мешками, она спит прямо на
нарах, у самого очага, хранящего ночью остатки тепла. Для Ниссо места здесь
нет. Ну и пусть: спать с коровой гораздо спокойнее, корова привыкла к Ниссо
- не придавит ее, не ударит. Ее зовут Голубые Рога, но рога у нее вовсе не
голубые и очень маленькие, она черная, лоб белый. Ниссо знает, что Голубые
Рога - очень доброе и нежное животное, не однажды бывало - Ниссо просыпалась
оттого, что Голубые Рога лизала ее лицо своим шершавым языком. Ниссо любит
корову и, пожалуй, больше никого на свете не любит. И сегодня Ниссо тоже
оставила ей два пучка добытой под снегом травы, - вот сейчас, как только
кончит есть похлебку, отнесет эти два пучка корове, приляжет с ней рядом и
будет слушать урчание ее впалого живота и скрип плоских, стертых зубов...
Ниссо тушит огонь очага круглым камнем. Едкий дым растекается по всему
жилищу. Меджид и Зайбо, свернувшись, как котята, уже заснули. Ниссо
оттаскивает их в сторону, чтобы во сне они не свалились в очаг, берет свое
горячее, но все еще сырое платье, пучки травы, лежавшие под ним, и
направляется к загородке, за которой ее ждет Голубые Рога.
Но в жилище входит необычайно веселая Тура-Мо. Ее длинная белая рубаха,
под которой только штаны, запорошена снегом, ее косы растрепаны, на конце
правой привязной косы болтается большой ключ от кладовки, от той кладовки, в
которой - Ниссо это знает наверное - давно уже ничего нет. Смуглое лицо
тетки, большие темные глаза ее не такие, как всегда: Тура-Мо улыбается. Это
удивительно, что Тура-Мо улыбается. Ниссо не помнит, чтобы тетка улыбалась.
Странные глаза у тетки сейчас: смеющиеся, острые и блестящие. Ниссо
старается прошмыгнуть за перегородку, но Тура-Мо толчком возвращает девочку
к очагу. Ниссо молча садится, потупив взор и прикрывая платьем пучки травы,
приготовленной для коровы. Но Тура-Мо как будто не обращает на Ниссо
никакого внимания: отвернулась, закинула ладони под косы, полузакрыла глаза,
расхаживает вдоль и поперек жилища. Ниссо искоса наблюдает за непонятным
поведением тетки. Обычно Тура-Мо придет, сядет у очага, даст Меджиду или
Ниссо подзатыльника или, напротив, приласкает Зайбо, начнет есть молча и о
чем-то задумавшись, потом долго, сомкнув губы, сидит без движения - всегда
мрачная, всегда недоступная.
Сегодня с ней что-то особенное: ходит, будто танцует, и шаг у нее
легкий, глядит в потолок, улыбается. Ниссо наблюдает за ней и думает: не
убежать ли к корове? - но боится обратить на себя внимание тетки, - лучше не
шевелиться пока!
Тура-Мо вдруг начинает петь, - без всяких слов, только тянет на все
лады одно протяжное: "А-а-а..." Поет и ходит, как сумасшедшая. Ходит все
быстрее и быстрее, приплясывает, и косы ее развеваются, рубаха зыблется
волнами по ее тощему гибкому телу. Никогда не пела так тетка, и Ниссо уже не
на шутку страшно. Что будет дальше?
Разом умолкнув, Тура-Мо садится на нары рядом с Ниссо. Лицо Тура-Мо
весело и возбужденно. Сунув руку за пазуху, она протягивает Ниссо что-то
розовое:
- На, глупая, ешь!
В пальцах Тура-Мо кусочек розовой каменной соли - лакомство, невиданное
давно. Ниссо опасливо глядит на кусочек, не решаясь принять его.
- Ешь, - смеясь, повторяет Тура-Мо и сует соль прямо в рот Ниссо.
Ниссо чувствует во рту приятный вкус тающей соли, но все еще боится,
ласка тетки так необычна, что страх одолевает Ниссо все больше.
Тура-Мо, охватив руками Ниссо, начинает покачиваться вместе с нею из
стороны в сторону. Опять прикрывает глаза, опять тянет сквозь зубы:
"А-а-а... а-а-а!.." Ниссо дрожит. Тура-Мо покачивается, но все тише, тише.
Замолкает. Руки ее слабеют. Ниссо, думая, что тетка заснула, осторожно
старается освободиться из ее рук.
Но Тура-Мо вдруг открывает глаза, глядит на Ниссо иначе - холодно,
жестко, так, как глядит всегда, и грубо отстраняет девочку. Ниссо
отскакивает от очага.
- Ты куда? - кричит Тура-Мо, и Ниссо разом останавливается. И уже
обычным, раздраженным тоном тетка начинает: - Похлебку варила? Где огонь?
Почему в котле одна только вода? Весь день тут торчала, лентяйка?
Ниссо, голая, как изваяние, стоит, опустив лицо. В руках ее платье, в
котором завернуты два пучка травы.
- Отвечай!
- Варила, - тихо отвечает Ниссо.
- Значит, сама наелась, а мне не нужно? А я, что же, по твоей доброте
должна быть голодной? Это что у тебя в руках? Почему не сварила?
- Голубые Рога...
- Вот как! - впадает в ярость Тура-Мо. - О корове ты думаешь, на тетку
тебе наплевать?! Или я тебя, проклятую, даром держу у себя, кормлю, одеваю?
Неблагодарная дрянь! Выгоню вот на снег, ищи себе жилье в волчьих берлогах!
Иди теперь за огнем, а это давай сюда!
И, вырвав у Ниссо траву, Тура-Мо злобно швырнула ее в котел. Ниссо,
сжав губы, без звука двинулась к выходу. Выскользнула на морозный ветер,
надела на себя платье и медленно пошла к соседу - просить углей.
Ночью, когда, прижавшись к шерстистой шкуре коровы, Ниссо спала, ее
разбудило какое-то всхлипывание. Ниссо прислушалась. В темноте громко
плакала тетка. Умолкала и начинала всхлипывать снова. Потом раздался
пронзительный, испуганный плач Зайбо. Тетка умолкла и, что-то бормоча, стала
успокаивать дочку. Голубые Рога повернула голову, ткнулась мокрой мордой в
колени Ниссо и вздохнула протяжно, длинным коровьим вздохом, обдав Ниссо
струей горячего воздуха. Ниссо еще теснее прижалась к корове и, глядя в
темноту, стала раздумывать о том, что могло быть причиной недавнего
странного веселья тетки и почему она плакала сейчас, ночью? Ветер
посвистывал в щелях между камнями так, будто в нем кружились демоны гор.
-
Пойду я
, -
говорит Бондай-Шо. - Со мной пойдешь?
- Не пойду. Надо камни убрать. Работать надо...
Вокруг губ Тура-Мо сухая, горькая складка. Ее не было в прошлом году.
- Кому нужен твой патук? Ноги кривыми станут. Идем со мной лучше.
- Не пойду. Пусть кривые - зато не умру.
- Тебе весело жить надо, а ты не идешь. Я пойду.
- Иди. Принесешь?
- Принесу.
И Бондай-Шо ушел. Рваный халат на голом теле, двуструнка в руках, за
плечами пустой козий мешок. Без мешка не переправиться через реку, а
переправляться надо во многих местах. Ушел.
Вот спускается по тропе: широкие плечи, бритая голова.
Вот коричневая фигурка далеко внизу, у реки, возится, надувает
плавательный мешок.
Вот поднял халат на плечи, взял мешок под живот - и в воду. Лег на него
и черной точкой понесся в блистающей пене течения: взмахивает рукой и
ногами.
Вот скрылся за мысом...
В ущелье весна. Солнце жжет горячо, но ветер еще несет дыхание льдов.
Вверху, над ущельем, слепят глаза ледяные пирамиды. Но с ними уже не
справиться солнцу.
Целую неделю нет Бондай-Шо. Без него Тура-Мо приходит в себя. Расчищены
от камней три ступени на лестнице крошечных полей селения. Натасканная
деревянными чашками земля слежалась за зиму, жесткой коркой покрывает
ступени. Долгими утрами трудится Тура-Мо: к спиленным козьим рогам привязан
сыромятный ремень, он обвивает Тура-Мо. А на козьих рогах большой камень,
для тяжести, чтобы плуг шел ровнее.
На других полях работают мужчины: разве дело женщины пахать землю?
Никто не поможет Тура-Мо. Но никто и не смеется над ней, все знают: она
одна, а Бондай-Шо одержимый. И если она сеет патук, то что же ей делать? Ни
проса, ни ячменя не согласился дать ей в долг почтенный Барад-бек. Пусть от
патука кривятся ноги, но зато он даст урожай сам-пятнадцать и может расти
чуть не на голом камне. Конечно, Тура-Мо сумасшедшая: разве можно сеять одни
только зерна патука? Ну пусть бы еще пополам с горохом, все-таки будет
питательная мука. Такую можно есть целый месяц - дольше, конечно, нельзя;
если есть дольше - обязательно заболеешь. Жилы под коленями стянутся, кости
начнут ныть и болеть, ноги скривятся, как серп. Но Тура-Мо не слушает
никого, сеет зеленые зерна и знать ничего не хочет. Ну, да всякий делает то,
что ему нужно, а когда нечего есть, и патук еда!
Целую неделю нет Бондай-Шо, и за целую неделю Тура-Мо ни с кем не
перемолвилась словом. Только отрывисто бросает Ниссо: "Принеси воды", "Подай
камень", "Раздуй угли", - но разве это слова? Ниссо делает все, что
приказывает ей Тура-Мо, и тоже молчит. Ниссо никогда не противоречит тетке,
- молчит так, словно родилась без языка. Но, кажется, она довольна, что нет
Бондай-Шо: без него тетка всегда одинаковая - сумрачная и злая. Нет ничего
хуже тех дней, когда она смеется, приплясывает, ходит, как пьяная. До этой
зимы никогда не бывало с теткой такого, а теперь бывает все чаще, стоит
только ей провести день с Бондай-Шо. Глаза ее горят, слова, самые разные,
цепляются одно за другое без смысла; веселье и ласки ее сменяются такой
яростью, будто в нее вселяются дэвы; оставаясь одна, тетка царапает себе
лицо и рыдает целыми ночами. И это так страшно, что лучше, если бы она била
Ниссо... И несколько дней потом Тура-Мо совсем не похожа на человека: не
ест, не работает. Пусть бы лучше Бондай-Шо не возвращался совсем!
На восьмые сутки Бондай-Шо вернулся. Издали увидела его Ниссо: он
поднимался от реки по узкой тропинке, таща на себе тяжелый мешок. Взглянув
туда, где Тура-Мо очищала от камней четвертную ступеньку посева, Ниссо
увидела, что тетка, бросив работу, бежит навстречу Бондай-Шо. Они сошлись у
входа в его жилище. Тура-Мо о чем-то спросила его, и он потряс на ладони
туго набитый маленький мешочек. Потом они вошли в дом. Ниссо подумала, что,
верно, Бондай-Шо принес с собой еды: может быть, вареную козлятину, может
быть, просяные лепешки? Ведь он всегда приносил с собой еду. И подумала еще,
что они все съедят сами. Прячась за камнями, Ниссо тихо прокралась к дому
Бондай-Шо со стороны ограды.
Дом Бондай-Шо, как и все дома в Дуобе, был с плоской крышей и без окон.
Стоя у стены, Ниссо ничего не могла увидеть. Ловко цепляясь за выступы
камней, упираясь в тутовое дерево, приникшее к дому, Ниссо выбралась на
глинобитную крышу, подползла к дымовому отверстию. Она очень хорошо
понимала, что если тетка или Бондай-Шо обнаружат ее, то ей несдобровать, но
еще лучше знала, что успеет вовремя ускользнуть. Отсюда она услышала их
разговор:
- Они сидели кругом и пили чай: какой это был чай! В нем было много
соли, и сала, и молока; мои ноздри слышали его запах, я не помню, когда я
пил такой чай! Азиз-хон сказал, что всех нас угостит, если ему будет весело.
- А кто еще был? - услышала Ниссо голос тетки.
- Много народу. С нашей стороны - из Сиатанга и из Зархока; и с той
стороны - разве я знаю названия всех селений! Много людей, говорю, - большой
праздник! Таких, как я, тоже много пришло - наверно, человек сорок. В котлах
варились бараны... Я думал: буду веселее всех, иначе Азиз-хон мне ничего не
даст. Они сидели, все старики, и спрашивали меня: почему не пришел
Барад-бек? Я отвечал всем: "У нашего Барад-бека болят глаза". Может быть, и
правда - глаза болят у него?
- Он дал мне восемь тюбетеек зерна патука.
- Что сказал?
- Сказал: молоком отдай.
- А гороху не дал?
- Жди от него! Посеяла один патук.
- А вот мне Азиз-хон дал гороху, смотри - полмешка. Посеем его, хорошая
мука будет.
- За что дал?
- Очень смешно. Новую игру Азиз-хон придумал! На меня овчину изнанкой
надели, на спине горб из камня, в руках палка, очень дряхлый старик из меня
получился. Зогара одели женщиной. Лицо белым платком закрыли, даже шерстяные
косы привязали. Вот я ухаживаю за "ней", "она" гонит меня. Очень ловко
играл... Так смеялись, чуть животы не порвали.
- А мясо откуда взял?
- Мясо? Всадники риссалядара съехались. Козла драли...
- И сам риссалядар был?
- Сам не был, не дружит с ханом... Козла драли, каждый хотел удаль свою
показать, первым козла к ногам Азиз-хона бросить! Ха! Я думал, друг друга
они разорвут! А от козла только рваный мешок остался. Потом выбросили козла;
я и другие такие взяли его, сварили. А этот мальчишка, ханский змееныш,
Зогар, Азиз-хону пожаловался, хан выгнал меня... Все-таки мясо осталось!
- Ничего, хорошее мясо!.. А э т о г о много принес?
- Вот видишь!..
Ниссо слушала, затаив дыхание. Ей очень хотелось узнать, про что они
сейчас говорят? Она заглянула в дымовое отверстие. Тура-Мо сидела у очага,
обняв Бондай-Шо, и держала большой кусок вареной козлятины. Увидев мясо,
Ниссо почувствовала такой неукротимый голод, что забыла об осторожности: она
пододвинулась ближе к дымовому отверстию и нечаянно столкнула сухой кусочек
глины. Он со звоном упал на чугунный котел. Ниссо отпрянула назад, подползла
к краю крыши, схватилась за ветку дерева, соскользнула вниз и - бросилась
бежать.
Бондай-Шо и Тура-Мо весь день не выходили из дому. Полевая работа была
забыта. Вечером Ниссо еще раз прокралась к дому Бондай-Шо и услышала хриплое
пение Тура-Мо.
"Опять! - сказала себе Ниссо. - Опять с нею началось это!"
Наутро жители собирались гнать овец и коров на Верхнее Пастбище, чтобы
оставить там скот на все лето. Голубые Рога надо было присоединить к стаду.
Ниссо знала, что гнать корову придется ей, и с нетерпением ждала этого дня.
Ниссо помнила прошлое лето, проведенное на Верхнем Пастбище, - там было
хорошо: целый день пасешь среди сочной травы корову, а вечером вместе с
другими девочками и женщинами делаешь кислый сыр. Тетки нет, никто не
понукает, никто не ударит, а если и покричат, то и пусть кричат, - совсем не
страшно, когда на тебя кричат чужие.
Придет или не придет тетка к утру? Велит идти на Верхнее Пастбище или
нет? Без приказания тетки разве может Ниссо пойти завтра со всеми!
Всю ночь не спит Ниссо, тревожится, думает. А еще больше думает о
козлятине: съедят всю или не съедят? Ниссо кусает губы от голода. Меджид и
Зайбо с вечера наелись сырых зерен патука и спят теперь как ни в чем не
бывало. А Ниссо боится есть патук: все девочки кругом говорят, что нельзя
его есть. Ниссо не хочет, чтоб у нее скривились ноги, ведь у нее нет ни
матери, ни отца, - кто позаботится о ней, если она заболеет? Ночью Ниссо не
выдерживает: не может быть, чтоб Тура-Мо и Бондай-Шо всю ночь не спали! А
если спят, то...
У Ниссо нет никакого плана действий, просто неукротимый голод влечет ее
из дому. Погладив бок спящей коровы, Ниссо осторожно выходит за дверь.
Только б не залаяла собака соседа! Босые ноги легко ступают по камням, - ни
один камень под ногою не шелохнется. Через каменную ограду, через другую...
Луны нет, темно, но Ниссо помнит каждый камешек, их не надо даже ощупывать.
Вот и вход в дом Бондай-Шо! Кто-то дышит справа от входа, и Ниссо замирает у
стены. Прислушивается. Это дышит осел; значит, вечером он сам пришел с поля,
- конечно, ведь о нем забыли! Они спят: чуть доносится храп Бондай-Шо, а
тетки совсем не слышно, только бы не наткнуться на нее! Осел с шумом
поворачивается к Ниссо; с упавшим сердцем она замирает снова, но, собравшись
с духом, протягивает руку, гладит осла, - как бы не затрубил! Но осел узнает
ее, щиплет ее руку шершавыми губами, молчит. Ниссо становится на
четвереньки, вползает внутрь жилища, присев на корточки, затихает. Когда
дыхание ее успокаивается, она осторожно втягивает воздух ноздрями, - мясо
должно вкусно пахнуть. Но в доме пахнет совсем иначе, - что это за острый,
пряный запах? Он щекочет ноздри, хочется чихнуть, - только бы не чихнуть!
Это совсем не запах еды, все пропитано этим запахом! Что они жгли тут?..
Ниссо очень боится чихнуть, но терпеть больше невозможно. Забыв
осторожность, Ниссо крадется к очагу, тянет руки вперед, натыкается на
деревянную чашку. В ней кость, большая кость с мясом! Сердце Ниссо
колотится, но кость уже зажата в руке. Ниссо пятится, поворачивается о
опрометью кидается из дома. Никто в доме не шелохнулся, но Ниссо все-таки
бежит, не разбирая пути, больно ударяясь ногами о камни, а кусок козлятины -
уже во рту, и никакая сила не вырвет его из зубов Ниссо! Перепрыгнув через
ограду, через вторую, Ниссо спотыкается о камень и падает. Ей больно, но ей
не до боли. Она остается лежать и, ухватив руками кость, с жадностью,
по-звериному запускает зубы в кусок мяса и рвет его и проглатывает не
разжевывая. Потом она начинает есть медленнее, уже не глотает куски.
Постепенно приходит сытость, и Ниссо садится удобней на камень. Она
вспоминает о Зайбо и Меджиде, - может быть, пойти домой, разбудить их и дать
им по кусочку тоже? Конечно, надо им дать, только не все, - немножко! А
может быть, не давать? Ведь если там осталось еще мясо, то тетка утром,
наверное, их не забудет? Она всегда дает им все, что достанет сама.
В таких размышлениях Ниссо поднимается и медленно бредет к дому. Входит
в дом. Голубые Рога спит, Меджид и Зайбо спят тоже. Нет, не надо будить их:
раз они спят, значит им хорошо значит они не голодны. И ведь они с вечера
наелись патука. Лучше всего подождать до утра. Если Тура-Мо ничего не
принесет им - ну, тогда можно будет им дать по кусочку. А вдруг тогда они
расскажут тетке, что Ниссо кормила их козлятиной? Конечно, они могут
рассказать! Пусть лучше Тура-Мо думает, что кость украла собака соседа, ведь
могла же она украсть?.. А вдруг, если Ниссо сейчас заснет, собака в самом
деле прибежит и съест то, что у нее осталось?
Ниссо раздумывает: куда спрятать мясо? На дворе, под камнями? Но собака
может пронюхать, разрыть. Дома? Но вдруг тетка придет, пока Ниссо будет
спать. Нет! Лучше совсем не спать, держать добычу в руках, а утром съесть ее
всю. Конечно, так лучше!
Ниссо пробирается к корове, садится рядом, приникает к ней, зажимает
обглодыш между колен, сидит, старается не заснуть. Но она сыта, и ее клонит
ко сну. Через несколько минут она уже спит сидя, склонив голову и ровно,
безмятежно дыша.
Утром никто не приходит. Ниссо, проснувшись, испуганно шарит руками
вокруг себя. Но мясо лежит тут, и Ниссо съедает его одна.
Утренний туман поднимается над ущельем. Весь Дуоб в оживлении: женщины
сегодня уводят скот на Верхнее Пастбище. Но Тура-Мо курит опиум вдвоем с
Бондай-Шо. Она в другом мире, смутном, нездешнем. Никто на свете, кроме
Ниссо, не вспоминает о ней. И кому есть дело до горя Ниссо? Неподвижно сидит
она у входа в свое жилище и глядит на бредущий по селению скот: коровы, козы
и овцы, звеня чугунными колокольцами, выплывают из розового тумана и снова
скрываются в нем. А Голубые Рога, словно чуя свою беду, протяжно и грустно
мычит, высунув голову из-за загородки и блестящими глазами провожая уходящее
стадо.
Прошло несколько лет, - кажется, пять, может быть, даже больше: прошли
они так же, как перед тем проходили многие годы - ничто не менялось в Дуобе.
Несколько человек умерло, - их хоронили тихо, не слишком печалясь.
Народились новые дети, - никто им не радовался. Все знали: люди здесь
подобны камням, - сколько б ни сбрасывать их с полей, сверху навалятся
новые; всегда будут люди в селении, и всегда будет им голодно. И дом Тура-Мо
ничем не отличается от других домов, - пока живы в нем дети, они растут, как
бы ни приходилось им плохо.
Так же, как и раньше, жила Ниссо, так же таскала в кувшине воду и
варила похлебку, вела все хозяйство. Только к лохмотьям своего брезентового
платья подшила снизу несколько кусков от изодранного джутового мешка, -
теперь оно доходило ей до колен.
Никто не помогал Ниссо. Достигнув десятилетнего возраста, Меджид мог бы
уже многое делать в доме. Но главным его занятием оставалась стрельба из
лука камнями.
Этим занятием увлекались все мальчики Дуоба, но Меджид предавался ему с
особым увлечением. Он убивал птиц, щебетавших на ветвях тутовника, и ел их,
как кошка, сырыми. Он подстерегал девочек, спрятавшись за камнями, и однажды
влепил в лицо Зайбо такой камень, что искровенил ей всю щеку, разбил губу,
выбил два передних зуба. Зайбо без сознания упала со стены, на которую
залезла, чтобы дотянуться до диких яблок, выросших в саду соседа. Девочку
подобрал сосед Палавон-Назар, охотник и мастер по шитью сыромятной обуви из
кожи козла.
Тура-Мо не было в селении; с тех пор как она стала уходить с Бондай-Шо
в долину Большой Реки, ее редко видели в Дуобе, да и мало о ней вспоминали.
Палавон-Назар, высокий, сухой и одинокий, как каменная башня на вершине
горы, казался человеком суровым и жестким, но у него было доброе сердце. Он
взял Зайбо на руки и отнес ее к Барадбеку, чтобы тот посоветовался с богом о
наилучшем способе вылечить девочку.
Степенный, седобородый Барад-бек потыкал волосатым пальцем в
окровавленное лицо Зайбо, влил ей в рот какую-то жидкость, от которой она
пришла в себя и заплакала. Затем повесил ей на шею треугольный амулет -
зашитую в тряпочку молитву, предохраняющую от всяких болезней. Палавон-Назар
поблагодарил Барад-бека, дал ему за амулет шкурку недавно убитой лисы и
отнес Зайбо к себе в дом в полной уверенности, что она будет здорова.
Но через несколько дней раны на лице Зайбо начали гноиться, тело ее
пламенело, рот распух, и она отказывалась даже от кислого молока. Тогда
Палавон-Назар решил не пожалеть еще одну шкурку лисицы и отнес ее к дряхлой
Зебардор.
Старуха растопила баранье сало, смешала его с пеплом и сажей от
сожженного птичьего помета, прибавила в смесь горсть какого-то толченого
корня и густо обмазала этим лекарством лицо Зайбо.
Через несколько дней Зайбо действительно стало лучше, она уже бегала по
селению, с черным, страшным, словно обугленным, лицом, но беспечная, как все
дети в ее возрасте. Меджид, ссорясь с ней, по-прежнему потчевал ее тумаками,
и Ниссо напрасно драла ему уши после каждого его нападения на Зайбо.
К Ниссо Меджид относился с открытой ненавистью. При всяком удобном
случае он кричал ей, что она "незаконнорожденная лягушка", что она может
убираться из дома его матери, в котором живет из милости, и что он еще
отомстит ей за все придирки. Ниссо почти не обращала внимания на злобные
выкрики мальчишки, трудилась и любыми способами старалась добывать еду.
Меджид был глух на правое ухо и всегда кричал, что в его глухоте
виновата Ниссо, которая однажды особенно сильно надергала ему ухо. В
действительности дело обстояло иначе. Год назад в ухо Меджиду заползло
какое-то насекомое. Тура-Мо в тот раз привела сына к той же Зебардор, и
старуха за три тюбетейки тутовых ягод влила в ухо Меджида какую-то горячую
жидкость. Жидкость обратно не вылилась, застыла в ухе, и с тех пор Меджид
наполовину оглох. Меджид и сам помнил об этом случае, но ему гораздо
интереснее было обвинять в своей глухоте Ниссо.
Он вообще любил делать ей всякие гадости. Недавно, когда Тура-Мо на
неделю вернулась в Дуоб, Меджид, притаясь за камнем, подстерег Ниссо,
которая с кувшином на голове поднималась от реки, и ловко выстрелил из лука
камнем. Камень угодил в самую середину кувшина, кувшин разлетелся на куски,
вода окатила Ниссо с головы до ног.
Ниссо так и не узнала, почему друг кувшин разбился на ее голове, и
очень испугалась: "Наверное, речной дэв разгневался на меня". А Тура-Мо так
избила Ниссо, что та еле уползла от нее в пустой коровник и осталась там
лежать без движения. Позже Тура-Мо даже пожалела девчонку и ночью пришла
посмотреть, не умерла ли Ниссо. Но, услышав тихие - сквозь сон - стоны
Ниссо, вышла из коровника успокоенная.
На следующий день Тура-Мо вместе с Бондай-Шо снова ушла в долину
Большой Реки, потому что, как и он, жить без опиума уже не могла. Ниссо
утром встала и, превозмогая боль во всем теле, отправилась к Палавон-Назару
просить какой-нибудь сосуд для воды.
Палавон-Назар в это утро лил круглые пули для своего фитильного ружья.
Перед ним на камне стояла деревянная чашка с ячменным зерном. Он отсчитывал
по восемнадцати зерен для каждой пули, чтобы все они были равны по весу, и
очень искусно, в самодельной формочке, обливал эти зерна свинцом, добытым у
кочевников в Восточных Долинах. Поглядев на робко вошедшую Ниссо, заметив
под ее глазами большие синяки, Палавон-Назар поцокал языком, протянул ей
чашку с приготовленными для пуль зернами и сказал:
- Съешь, сколько хочешь. Тетка ушла?
Ниссо молча кивнула головой и запустила в рот целую пригоршню зерен.
Палавон-Назар искоса наблюдал за ней, встал, прошел в угол своего дома
и, вернувшись, протянул Ниссо ломоть сушеной козлятины.
Когда она рассказала ему о кувшине и доверчиво спросила, за что мог
речной дэв разгневаться на нее, - он, подумав, медленно ответил.
- За что гневаться на тебя? Твое сердце еще как абрикос без косточки.
Просто шутят с тобой дэвы. Есть у меня два кувшина, возьми один!
И Ниссо, от радости забыв поблагодарить Палавон-Назара, пошла домой с
новым кувшином.
Видимый мир Ниссо был ограничен двумя хребтами скалистых гор,
взнесенных над ущельем, на дне которого с неумолчным шумом кипела река. Вниз
по течению этот мир отсекался от всего неизвестного высоким отвесным мы сом,
за который убегала река. Вверх по течению река видна была далеко, до самых
бурунов, созданных нагроможденными скалами. Выше над ними синела поперечная
гряда, под которой в устье невидимого отсюда притока зеленела круглым
пятнышком одинокая купа деревьев. Над грядою, безмерно далекие, ощеривались
в небо зубцы неведомого хребта. Еще выше над ними всегда блистали на солнце
волнистые, тающие в голубом небе скаты Ледяных Высот. Летом оттуда текли
прохладные ветры, зимою, скрывая весь мир, волочились туманы и снежные тучи.
А селение Дуоб, в котором родилась и жила Ниссо, лепилось по склону,
переходившему выше в крутую каменистую осыпь, - с нее на поля и сады вечно
падали острые камни. Дуоб был разделен надвое каньоном бокового притока,
узкой щелью, прорезавшей склон сверху донизу. Боковой приток зимою вился
тоненьким звенящим ручьем, летом становился бурным рыжим потоком, яростно
лижущим стены, швыряющим свои водопады через головы скал, перегораживающих
его русло. К осени воды его очищались, смирялись, прозрачные, как хрусталь,
отражали в застоинах, на ступенчатых перепадах и небо, и ветки кустарника,
проросшего между камнями, и фигуры путников, бредущих по узкой тропе вдоль
ручья к летовью, на Верхнее Пастбище, или обратно - домой, в Дуоб.
Никуда, кроме Верхнего Пастбища, за всю свою жизнь Ниссо из селения не
ходила, но, становясь старше, все чаще задумывалась о том, что делается там,
за видимым ею миром, куда - в одну сторону - ходят Палавон-Назар и другие
охотники, и куда - в другую, - вниз по реке, исчезая за мысом, пропадают так
надолго Бондай-Шо и Тура-Мо.
Раньше Бондай-Шо всегда уплывал по реке на надутой козьей шкуре. Теперь
у него появилось пять шкур, и из четырех он делал плот, на который усаживал
Тура-Мо и укладывал связанного осла. Сам по-прежнему плыл на одном мешке,
держась рукою за плот и управляя им среди пенных гребней. Обратно тетка и
Бондай-Шо всегда возвращались пешком, по той тропинке, по которой когда-то
Розиа-Мо ушла вместе с незнакомым стариком.
Ниссо казалось, что она смутно помнит свою мать, но в действительности
она ничего не помнила, кроме рассказов Палавон-Назара, всегда говорившего
Ниссо, что ее мать была еще красивее Тура-Мо и гораздо добрее. Думая о
матери, Ниссо всегда как-то смешивала ее воображаемый образ с лицом
Палавон-Назара: он был совсем некрасив и, конечно, никак не похож на
Розиа-Мо, но глаза его были добрыми. Ни в чьи глаза, кроме глаз
Палавон-Назара да коровы Голубые Рога, Ниссо не решалась взглянуть прямо и
доверчиво. Разговаривая с людьми, она всегда опускала глаза или отводила их
в сторону, словно опасаясь, что в них перельется чужое ядовитое зло.
Но коровы Голубые Рога давно уже не было, Тура-Мо сама отвела ее к
Барад-беку в расплату за долги, чтобы получить от него две полные тюбетейки
опиума. Барад-бек продал корову какому-то чужеземцу, приходившему из Нижних
Долин. Этот человек разговаривал на языке, весьма похожем на сиатангский, -
все понимали его. Что это был за человек, Ниссо так и не узнала, но Голубые
Рога уже не вернулась, и человек этот больше не приходил в Дуоб.
Когда уводили корову, Ниссо горько плакала, - это было в первый раз,
когда Ниссо плакала, - долго бежала за коровой, цепляясь за нее, и умоляла
того человека не угонять Голубые Рога. Но человек только улыбнулся, потрепал
Ниссо по плечу и протянул ей какую-то еду, завернутую в бумажку. Ниссо
швырнула эту еду ему в лицо, укусила его руку; он очень рассердился и ударил
Ниссо кулаком в грудь. Она упала, вскочила, снова попыталась догнать его, но
остановилась, потому что он пригрозил ей камнем...
Это произошло уже за отвесным мысом, там, где тропа полезла высоко
вверх. С тех пор Ниссо не раз ходила туда, на место последней разлуки с
Голубыми Рогами, садилась на камень и подолгу печально думала, словно
прислушиваясь к мягкой поступи удаляющейся коровы, словно еще видя ее понуро
опущенный черный хвост с белой отметиной посередине.
Там, на узкой тропе за отвесным мысом, Ниссо училась вспоминать о
былом, и мечтать, и грустить. В селении ей было не до того. Дом требовал
вечных хлопот и забот, и ей никогда не приходило в голову, что дома можно
просто сидеть, ничего не делая, или резвиться с соседками, или развлекаться
теми игрушками, какие делал и дарил всем детям селения Палавон-Назар. Это
были глиняные козлы, и шерстяные куклы, и раскрашенные камешки, и палки с
красными и черными черточками... Все эти безделушки совсем не интересовали
Ниссо, - она даже не понимала, как это можно целыми днями бессмысленно
вертеть их в руках и ссориться из-за них?
Плоская крыша дома Палавон-Назара была накалена солнцем. Поджав под
себя ноги, Ниссо сидела на ней, и коричневое тело ее просвечивало сквозь
лохмотья изветшалой одежды. Вот уже долго, совсем как взрослая, она ведет с
Палавон-Назаром большой разговор.
- А еще есть какие люди, Назар?
- А еще? Дай-ка мне вот ту иглу, что без нитки! - сквозь зубы, закусив
сыромятный ремешок, отвечает Палавон-Назар и тянет мокрый ремешок, свивая
его между пальцами так, чтобы получилась тонкая кожаная нитка. - Еще?
Русские еще есть.
- Кто они?
- Как и мы, люди, только гораздо грамотней нас, и сильней, а потому и
богаче. Они знают очень многое, о чем мы совсем не знаем. Как нужно было
трудиться, чтобы добыть себе такое знание!.. И они умеют делать очень много
вещей!
- А твое ружье сделали они?
- Нет, мое сделали бухарцы, я тебе говорил о них. Йо! Не такие ружья
делают русские! Если бы у меня было русское ружье, я бы каждый день убивал
по десять козлов!
- А где живут эти русские?
- Живут? - Палавон-Назар, растянув на плоском камне мокрую сыромятину,
принялся, кряхтя, тереть ее круглым камешком. - Их очень много, разве
скажешь, где они живут? Вон там, везде! - Палавон-Назар, подняв обе руки,
махнул ладонями в сторону Ледяных Высот.
- Во льду живут? - живо спросила Ниссо.
Палавон-Назар усмехнулся:
- Глупая, не во льду, а в той стороне, за горами.
- А за горами что? Еще горы?
- Еще горы, и еще горы, и еще горы. А потом горы кончаются и пойдет
ровное место.
- Большое ровное место? Как Верхнее Пастбище?
- Если одно Верхнее Пастбище ты приложишь к другому такому же и еще к
третьему и будешь целое лето прикладывать пастбище к пастбищу, из них всех
не получится и половины того ровного места, которое есть за горами.
Ниссо долго молчала, старательно складывая в уме Верхние Пастбища, и,
наконец, удивленно спросила:
- Сколько же там пасется овец?
- Столько овец, сколько звезд на небе! - полусерьезно ответил
Палавон-Назар.
- Ну, тогда русские, наверное, много едят, - глубокомысленно заключила
Ниссо.
Помолчала, внимательно глядя на работу Палавон-Назара, принявшегося
тачать мягкие сапоги, которые он предназначал ей в подарок, и спросила
опять:
- А еще какие есть люди?
- Еще? Яхбарцы.
- Это те, у кого есть звери, что называются лошади?
- Лошади, милая, есть у всех людей. Только у нас, дуобских бедняков,
нет. Что стали бы среди этих камней делать лошади? Как им пройти сюда по
нашей тропе?.. Яхбарцы, яхбарцы... Вот тот, который увел твою Голубые Рога,
был яхбарец.
Ниссо нахмурилась. Досадливо расправила складки рубища на своем грязном
колене и с сердцем сказала:
- Плохие люди!
- Всякие есть, мой цветок.
- Нет, яхбарцы - плохие! - гневно воскликнула Ниссо. - Не хочу о них
слушать. Скажи, кто там живет?
Палавон-Назар мельком взглянул на противоположный склон, на который
указывала Ниссо.
- Там, за горой? Сиатангцы там живут, такие же как я и ты... Наш
народ!.. Крепость у них, на реке...
- А что они делают в крепости?
- Ничего... Раньше хан жил там, теперь нет хана, пустая, наверно,
крепость.
- Почему теперь нет хана?
- Потому что теперь советская власть.
- А у нас тоже советская власть?
- Раз мы сиатангцы, значит, и у нас тоже... Только далеко мы от всех.
Не видим ее еще.
- А что значит - советская?
- Значит, наша.
- Твоя и моя?
- Да, моя, и твоя, и всех людей наших.
- А как же ты говоришь, что мы не видим ее еще?
- А когда дерево посадишь, разве сразу плоды появляются?.. Дай ногу,
примерить надо. Ниссо важно протянула ногу.
- Встань.
Ниссо встала. Палавон-Назар поставил ее ступню на кусок кожи и легонько
обвел острием ножа. Ниссо опять села и, взяв из деревянной чашки маленькое
кислое яблоко, вонзила в него крепкие, как у мышонка, зубы. Разговор
продолжался. Слушая Палавон-Назара, Ниссо внимательней, чем всегда,
разглядывала гряды гор, обступивших видимый мир. В ясной чистоте ее
сознания, как туманные видения, возникали фантастические образы мира
невиданного. Десятки ее наивных вопросов требовали немедленного объяснения,
и Палавон-Назар терпеливо отвечал.
- А куда уходит тетка? - неожиданно спросила Ниссо.
- Туда, вниз, в селение Азиз-хона, - нахмурясь, ответил Палавон-Назар.
- Хан?
- Хан. За Большой Рекой еще есть ханы.
- Богатый?
- Раньше богатым был, весело жил, праздники большие устраивал... Теперь
время другое...
- Теперь тоже праздники он устраивает?
- Редко теперь. А откуда ты знаешь?
- Слышала, - как взрослая, неопределенно ответила Ниссо. Помолчала,
спросила: - А что тетка делает там?
Палавон-Назар тяжело вздохнул и ничего не ответил. Но Ниссо пытливо
глядела в его склоненное над работой лицо. Он неожиданно рассмеялся, напялил
сшитое голенище на руку и поднял его перед лицом Ниссо:
- Смотри, у козла бывают ноги толще твоих.
- Нет, - строго ответила Ниссо. - Ты мне о тетке скажи.
- Не скажу! - рассердился старик. - Вырастешь - сама узнаешь.
- Знаю и так, - вдруг с ехидцей и злобой горячо заговорила Ниссо. -
Недаром мужчины еду и опиум ей дают...
- А ты молчи... Не твое это дело! - сурово и тихо промолвил старик.
- Конечно, не мое, не мать она мне... чужая... - Ниссо печально поникла
головой и, замолчав, перестала грызть яблоко.
Теперь оба сидели молча. Посматривая на них снизу, Меджид подкрадывался
с луком к собаке Палавон-Назара. Разомлев от жары, собака дремала в тени,
под каменною оградой. Заметив Меджида, Ниссо стремительно сорвалась с места,
соскользнула по приставной лесенке во двор и с криком: "Уйди вон, а не то я
разорву тебе уши, как холстинку!" - кинулась бегом к нему.
Меджид спокойно повернул лук навстречу Ниссо, и камень со свистом
пролетел мимо ее головы. Ничуть не смутившись, Ниссо бросилась догонять
Меджида, но он уже исчез. Тут Ниссо подумала, что нужно перевернуть тутовые
ягоды, разложенные для подсушки на крыше дома, и полезла туда. Целый ковер
белых и черных тутовых ягод застилал плоскую крышу и под горячими лучами
солнца отдавал недвижному воздуху свой пряный густой аромат.
Перебрав ягоды, Ниссо надумала выкупаться и спустилась к реке. Она не
боялась холодной воды и летом всегда смело входила в ее быстрые струи. Никто
не учил Ниссо плавать, но это искусство, присущее жителям горной страны,
пришло к девочке само собой, когда однажды течение, оторвав ноги Ниссо от
каменистого дня, понесло ее вниз. В тот раз она сумела без посторонней
помощи выбраться на берег и с тех пор уже не боялась удаляться от берега.
Под тропой, уходящей вниз, три огромные, когда-то низвергнутые в воду
скалы образовали глубокую заводь, в которой прозрачная вода текла
сравнительно медленно. Здесь, в природном бассейне, можно было барахтаться и
плавать без риска быть унесенной в стремнину реки, и этот бассейн стал
излюбленным местом купанья Ниссо.
Она сбросила одежду и, распустив волосы, худощавая, ловкая, прыгнула в
воду. Вынырнув у самой скалы, выбралась на камень и прилегла на нем, как
ящерица, греясь на солнце. Опустив лицо к самой воде, вглядываясь в
зеленоватую глубину, она предалась беспечному созерцанию переменчивых теней,
играющих между камнями дна; опускала руки в воду и весело наблюдала, как
тугое, безостановочно летящее стекло воды дробилось под ее пальцами и с
шуршанием делилось на две тонкие белые струи.
Долго пролежала бы так Ниссо, если б чутким слухом не уловила сквозь
монотонный гул реки какие-то посторонние звуки. Ниссо быстро подняла голову:
вверху, по тропе, по которой обычно за целый день не проходил никто,
двигалась вереница людей. Первый из них ехал на рослом, здоровом осле.
Приближение к Дуобу незнакомых людей было происшествием столь необычным
и неожиданным, что Ниссо оробела. Она мгновенно соскользнула в воду и,
стараясь плыть около самых камней, чтобы сверху ее не заметили, пробралась
туда, где оставила платье, и притаилась за скалой, до плеч погрузившись в
воду.
Тропа над нею опускалась совсем низко к реке, но приближающиеся люди не
замечали Ниссо. Чуть высунув голову из-за камня, она наблюдала за ними.
Первым ехал плотный бородатый старик в просторном белом халате, с рукавами
такими длинными, что складки их от плеч до пальцев, скрещенных на животе,
теснились, как гребни волн на речном пороге. Впереди шел молодой
бритоголовый мужчина в черном халате, без тюбетейки. Ногой он отбрасывал с
тропы камни, на которые мог нечаянно наступить осел.
Старик в белом халате сидел строго и прямо, а белая его борода была
самой большой бородой из всех, какие Ниссо приходилось видеть. "Белая чалма,
белый осел, весь белый! - подумала Ниссо. - Наверное, сам хан к нам едет".
Дальше тянулись гуськом пешеходы, в халатах, - первый из них с
блестящим ружьем без ножек, совсем не таким, какое было у Палавон-Назара,
другие - с мешками на спинах, босоногие и во всем похожие на знакомых Ниссо
жителей Дуоба. Шествие замыкалось вьючным, тяжело нагруженным ослом.
Дрожа от студеной воды, в которой нельзя было оставаться долго, Ниссо
пытливо рассматривала пришельцев, медленно продвигавшихся над самой ее
головой.
Увидев селение, белобородый старик что-то сказал молодому проводнику, и
тот, почтительно выслушав, бегом устремился по тропе, очевидно для того,
чтобы предупредить жителей Дуоба о приближении важного гостя.
Когда путники скрылись из виду, Ниссо подтянулась на руках, чтобы
выбраться из воды, но вдруг увидела бредущих по тропе на значительном
расстоянии Бондай-Шо и Тура-Мо. Следуя за пришельцами, они, очевидно, не
смели присоединиться к каравану. Ниссо опять погрузилась в воду: ничего
хорошего не предвещала встреча с теткой, если б та увидела Ниссо здесь, явно
бездельничающей. Целый месяц их не было в Дуобе, и Ниссо чувствовала себя
уверенно и спокойно. Сейчас, утомленные, они шли молча. За плечами
Бондай-Шо, кроме пустых козьих шкур, не было ничего, а длинная, в два
человеческих роста, палка, которую он нес в руках, свидетельствовала о том,
что он проходил через перевалы и по крутым склонам осыпей. Раз у него нет за
плечами мешка с едой, значит, он очень злой, и тетка, конечно, еще злее его.
Лучше бы они совсем не приходили!
Они прошли мимо, и Ниссо, наконец, решилась выбраться из воды. Зубы ее
стучали, кожа покраснела от холода. Ниссо прижалась к поверхности
накаленного солнцем камня. Согрелась, взялась за одежду, раздумывая: что это
за люди? Откуда они? Что заставило такого важного старика явиться в
маленький бедный Дуоб? Куда они идут? Только сюда или мимо, к Ледяным
Высотам? В той стороне, к Ледяным Высотам, нет селений, - ничего нет, кроме
камня и льда, - так говорил Палавон-Назар, а он знает! Наверно, пришли
сюда... Зачем? Что будут тут делать? Лучше пока не возвращаться в селение.
Перебегая от скалы к скале, приникая к ним, карабкаясь над обрывами и
зорко осматриваясь, настороженная, дикая, Ниссо огибает селение по склону,
взбирается выше него по кустам шиповника и облепихи, кое-где пробившимся
сквозь зыбкие камни высокой и крутой осыпи. Наконец весь Дуоб, - все
двадцать четыре дома, приземистые, плоские, похожие на изрытые могилы, -
рассыпан перед Ниссо далеко внизу. Она припадает за круглым кустом и
смотрит.
В селении переполох. Все женщины Дуоба - те, что не ушли весной на
Верхнее Пастбище, - стоят на крышах, бьют в бубны, поют, а мужчины, окружив
пришельцев, толпятся во дворе Барад-бека, и сам он хлопочет, размахивает
руками, отдает приказания. Вокруг дома Барад-бека хороший тутовый сад,
единственный настоящий сад в селении, - возле других домов только редкие
тутовые деревья. Ниссо видит, как мужчины стелют в саду ковер, как несколько
дымков сразу начинают виться на дворе Барад-бека. Между домами селения
пробираются жители, кто с грузом корявых дров, кто с мешком тутовых ягод...
А направо, по ущелью, уже торопливо поднимаются две женщины; одну из них
Ниссо узнает по красному платью, - это племянница Барад-бека. Конечно, их
послали на Верхнее Пастбище за сыром и кислым молоком, - будет праздник
сегодня.
Вот, наконец, вечер, тьма. Давно уже не доносятся звуки бубнов. Все
тихо внизу, в селении. В саду Барад-бека сквозь листву просвечивают два
красных больших огня, - значит, пришельцы еще не спят. Дым стелется вверх по
склону, и чуткое обоняние Ниссо улавливает запах вареного мяса; очень
важный, видно, гость, если Барад-бек не пожалел заколоть барана! Ниссо
осторожно, прямо по осыпи спускается к селению, - даже горная коза не
спускалась бы так по зыбким камням. Обогнув осыпь, выходит на тропинку,
вьющуюся вдоль ручья к Верхнему Пастбищу. Никто еще не успел оттуда прийти.
Над тропинкой желоб оросительного канала; здесь вода разделяется на две
струи: одна к полям Барад-бека, другая ко всем другим полям Дуоба. Ниссо
жадно пьет воду, спускается ниже, подходит к ограде первого дома, охраняющей
его от камней, катящихся с осыпи. Эти камни валом приникли к ограде.
Странно, но в этот поздний час в доме слышны возбужденные голоса. В нем
живет семья Давлята, у которого зоб еще больше, чем у Бондай-Шо; у него было
восемь детей, шесть умерли за два последние года, остались две девочки -
Шукур-Мо и Иззет-Мо. Они еще совсем маленькие, но Иззет-Мо проводит это лето
на Верхнем Пастбище, пасет там трех коз Давлята. Ниссо прислушивается: в
доме кто-то громко, отрывисто плачет. Конечно, это жена Давлята, это ее
голос, причитающий и такой скрипучий, будто в горле у нее водят сухим
железом по камню.
- Лучше бы ты пошел к нему на целый год собирать колючку!
- Не пойду! - гневно отвечает Давлят. - Колючка не нужна богу.
- Чтоб твой бог... Чтоб твой бог...
- Зашей себе в шов то, что ты хочешь сказать! - в ярости перебивает ее
Давлят и чем-то громко стучит.
Ниссо проскальзывает мимо дома, удивляясь: с чего это жена Давлята
ругает бога?
В следующем доме женский плач еще громче, но никто не мешает ему. Ниссо
удивляется и торопливо пробирается дальше. В домах, мимо которых она
крадется, люди разговаривают и спорят, а ведь в этот час селение всегда спит
мертвым сном!
Вот и еще женские стоны, - это сыплет проклятьями старуха Зебардор.
Ниссо встревожена: что произошло? Днем стояли на крышах, пели и ударяли в
бубны, а сейчас ведут себя так, будто каждую искусала змея!
Торопливо перебегая от ограды к ограде, Ниссо, наконец, добирается до
своего дома. Убедившись, что тетки нет, входит в него. Прислушивается:
Меджид и Зайбо спят. Ниссо успокаивается и ложится спать. Но сон долго не
сходит к ней, - она слишком взволнована необычными обстоятельствами
прошедшего дня, ей хочется скорее узнать все о приехавших, она боится, что
тетка утром изобьет ее...
Но сон все-таки побеждает тревогу Ниссо.
Утром тетка входит в дом - спокойная, решительная. Ниссо сидит,
безразлично водя пальцем по пустому чугунному котлу, и котел отвечает глухим
шуршанием. Ниссо вся сжимается, готовая выдержать привычный гнев тетки: вот
сейчас подойдет, вот закричит, вот ударит, и надо только не отвечать, молча
прикрывая рукой лицо... Меджид и Зайбо забились в угол и глядят оттуда с
огоньком злорадства в глазах.
Но тетка, сделав несколько шагов, остановилась, молчит. Ниссо удивлена,
ждет, наконец решается коротко, украдкой взглянуть на нее и сразу же
опускает глаза.
Косы Тура-Мо расчесаны. Ее белая рубашка выстирана и еще не просохла на
ней. Ее штаны у щиколоток подвязаны, - что с ней такое сегодня? Почему она
такая спокойная, чистая?
И Ниссо еще раз мельком кидает взгляд на лицо Тура-Мо: вон какие
коричневые круги вокруг глаз, - все от опиума! Вот сжала губы, глядит своими
большими глазами, - спокойно глядит. Почему стоит и глядит?
И Ниссо еще старательней водит по краю котла ногтем, рождая
однообразный приглушенный скрип. Тетка спокойно говорит ей:
- Встань.
Ниссо встает. "Начинается!" Но Тура-Мо вынимает из рукава деревянный
гребень, начинает расчесывать волосы Ниссо. Обе молчат, и Ниссо недоумевает.
Тщательно расчесав волосы Ниссо, Тура-Мо заплетает их в две косы, снимает со
своей руки медное несомкнутое кольцо браслета, надевает его на тонкую кисть
Ниссо. Снимает с себя ожерелье из черных стеклянных бусинок, накидывает его
на шею Ниссо.
Все это до такой степени необычно, что Ниссо наполняется тревожным
предчувствием чего-то очень большого и нехорошего. Молчит, не сопротивляется
и, полузакрыв опущенные глаза, ждет. Тетка, отойдя на шаг, осматривает ее и,
видимо, удовлетворенная, коротко бросает:
- Теперь пойдем!
И выводит Ниссо за руку из дома. Ниссо невольно связывает все
происходящее с приездом важного гостя и идет рядом с теткой, как пойманный,
но готовый кусаться волчонок.
На очищенной для падающих тутовых ягод площадке, устланной сегодня
циновками, окруженный семьей Барад-бека, сидит, привалившись к одеялам,
важный величественный старик. Перед ним на лоскутке материи угощение:
тутовые ягоды, орехи, миндаль. Барад-бек разливает из узкогорлого кувшина
чай и протягивает всем пиалы.
Тура-Мо, не смея подойти ближе, останавливается, крепко держа Ниссо за
руку.
Сборщик податей живому богу исмаилитской религии, белобородый халиф